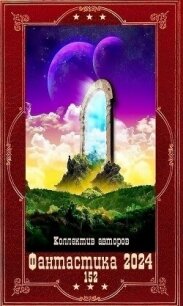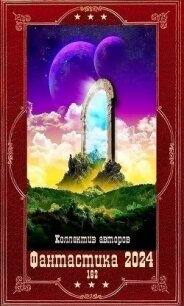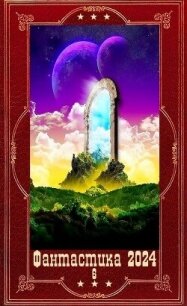Угол покоя - Стегнер Уоллес (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений TXT, FB2) 📗
Шелли смотрела на меня, склонив голову набок. Ее глаза, обычно скептически-прохладно-серые, потеплели почти до карих.
– Вы, вижу, очень были к нему привязаны.
– Мне кажется, больше, чем к кому‑либо. Да, был привязан, доверял ему.
– Наверно, он был очень похож на вас, – сказала она, все еще склоняя голову набок и задумчиво улыбаясь. – Он снисходил к человеческим слабостям, понимал их, да? Не осуждал людей. В нем было такое же великодушие, как ваше.
– Ох, дорогая моя Шелли, – сказал я. – Дорогая моя Шелли.
Я думаю, ею движут большей частью исповедальные мотивы. Она была бы очень рада, если бы мы с ней каждый день пускались в поиски истины. Ее, должно быть, сильно удивляет, что я, заглянув однажды в ее личную жизнь, не захотел исследовать ее дальше. Может быть, ей досадно, что я не интересуюсь ее суждениями о проблемах человеческого поведения (“поведенческих”, сказала бы она). У нее, бедняжки, своя маленькая драма, и она не прочь разыграть ее перед полным залом. И не возражала бы подставить ухо, если меня потянет на исповедь. В ее разговорах об Оливере и Сюзан Уорд есть этот сдвиг, этот “крутящий момент”, они слишком уж часто сворачивают на Лаймана Уорда.
Я мог бы сказать ей – и, возможно, придется‑таки сказать, – что если есть на свете одно, к чему я испытываю наибольшую брезгливость, то это пальцы, особенно женские, которые лезут мне в нутро. Мое нутро, как викторианский брак, дело приватное.
Поэтому я достал из седельной сумки пузырек, вытряс две таблетки аспирина, вытянул до конца свою целую ногу, слегка потер пульсирующую культю и сказал:
– Будьте добры, Шелли, принесите мне, пожалуйста, стакан воды.
Она принесла, но намек до нее не дошел. Когда я запил таблетки, взяла у меня стакан и спросила:
– Как вы поняли, что он уже тогда, в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом, был пьяницей?
– Не пьяницей. Пьющим. Не повторяйте ошибку моей бабушки.
– Хорошо, пьющим.
– Понял по некоторым бабушкиным письмам.
– Где она жалуется, что он пьет.
– И это, и еще кое‑что.
– Забавно. Я таких писем что‑то не помню, а я уже почти всё перепечатала до их переезда сюда.
– Эти письма не в папках.
– Да? Почему? А где они?
– Потому что это самое личное, что я про нее знаю, – сказал я. – Вдруг бедная викторианская леди раздета догола, и это просто ужасно. Внезапно ей приходится иметь дело с эмоциями, к которым утонченное образование ее не готовило.
– Почему? Что случилось?
– Не знаю в точности. Потому‑то мы и написали недавно в Историческое общество Айдахо, чтобы кто‑нибудь поднял для нас документы, относящиеся к Бойсе.
Шелли, нахмурив брови, изучала меня. Она сидела, подобрав под себя одну ступню, вельветовые брюки туго обтягивали ей бедра. И шевелила пальцами другой ноги в разношенной туфле-мокасине, похлопывая себя туфлей по пятке.
– Мне кажется, она невесть какие страсти развела из‑за того, что муж маленько выпивает, – сказала она.
– Я не говорил, что это всё.
Она начала наконец чувствовать холодок.
– Очень таинственно. Что же еще, интересно? У нее по‑настоящему началось с Фрэнком Сарджентом? Вы мне дадите взглянуть на эти письма?
Я не отвечал. Повернул кресло и посмотрел поверх ее головы туда, где сидела бабушка в своей позолоченной рамке, опустив глаза под боковым матовым наплывом света. Что‑то мне не хотелось, чтобы в ее нутро, как и в мое, лезли пальцами.
Почему же тогда я трачу столько сил, пытаясь разобраться в жизнях бабушки и дедушки? Зачем я все это надиктовываю и привожу в порядок? Зачем я, наняв эту девицу, поручил ей перепечатывать пленки, превращать диктовку в реальность? Зачем продвигаюсь по штрекам и штольням к потаенной залежи невзгод Сюзан Уорд? Что заставляет меня считать себя способным реконструировать эти жизни – любовь и сочувствие? Или я, Немезида в инвалидном кресле, вознамерился что‑то доказать? Что даже утонченность и порядочность – не гарантия от разъедающего действия людской слабости, людского предательства, людского разочарования, людской неспособности забыть?
В культе у меня пульсировало, я был расстроен, сердит, загнан в угол.
– Может быть, потом когда‑нибудь, – сказал я. – Мне надо еще их отыскать.
Время не на моей стороне. Меня угнетает медленный темп, с которым я двигаюсь. На дворе почти уже сентябрь. Я потратил весну и лето, чтобы довести Сюзан Уорд до сорокалетнего возраста, а умрет она в девяносто один. Если Шелли, как она вроде бы собирается, в следующем месяце отправится обратно в Беркли, то приватности у меня будет больше, а темп, скорее всего, еще замедлится.
Сверх того, мой врачишка общей практики в Невада-Сити сейчас говорит, что рискованно мне оставаться тут на зиму без нормальной сиделки. То бишь без двух сиделок, работающих посменно; притом он знает не хуже меня, что я и не хочу этого, и не могу себе позволить. Как у дедушки, у меня чуть лучше получается, когда никто не тянет и не подталкивает. Вся сиделка, какая мне нужна, это Ада. Она явится по моему зову, но не будет пытаться мной управлять. Доктор Хайнз, когда я это сказал, ответил, что у нее самой не все ладно, зимой разыгрывается артрит, большие трудности с дыханием, и на нее не всегда можно будет положиться. Что ж, буду разбираться с этой проблемой, когда она возникнет. Пока что его тревоги неубедительны. Чую тайное обстоятельство, и зовут это обстоятельство Родман Уорд. А за ним маячит еще одно обстоятельство по имени Эллен Хэммонд-Уорд. Мой сын, похоже, дал мне поиграться, сколько считал допустимым, и, все сильней убеждаясь, что надо что‑то предпринять, стал союзником своей матери, на которой я был женат двадцать шесть лет.
Как бы я объяснил, будь я предрасположен к разговорам начистоту, какие любит Шелли, – или, допустим, если бы я писал книгу не о бабушке, а о себе, – свои отношения с Эллен Уорд? Всю эту долгую историю тесной близости в магистратуре в Кеймбридже – это было что, сплошная фальшь и нечто нестоящее? Я не могу так думать. Копила ли она все эти годы обиду на то, что махнула рукой на свой диплом и свою карьеру? Я ее к этому не подталкивал. Она сама сказала, что не хочет профессиональной карьеры, а раз так, то нет смысла к ней и готовиться; и ее не интересовала роль любительницы, преподавательской жены, которой доверяют организацию чаепитий в университетском музее изящных искусств.
Те пять лет в Висконсине, когда я бился в университете за повышение, в годы Депрессии лишь ненамного более вероятное, чем мужские роды, – они что, были для нее засушливыми, бесплодными, пустыми годами? О нет. Там у нас родился Родман, там мы завели близких друзей, и денег было достаточно, чтобы, в отличие от многих наших современников, не ютиться в мансардах и не питаться сэндвичами с арахисовым маслом. Из тогдашних друзей иные умерли, кое‑кто прославился, некоторые пропали из виду, не разбогател по‑настоящему практически никто; но все были когда‑то близки друг к другу такой близостью, какую только мы с Эллен Уорд, будучи парой, почти тайно могли понять.
Все это – и последующие годы в Дартмуте и Беркли – как все это отложилось у нее в голове? Значит для нее что‑нибудь? Зря растраченная жизнь? Помнит ли она так же, как я, первые послевоенные годы, когда меня начали замечать, когда все, что накапливалось в книгах, стало приносить нам плоды? Возникает ли когда‑нибудь перед ее внутренним взором моя фигура – как я выхожу из кабинета после хорошего четырехчасового рабочего утра? Накрывает ли она мысленно железный столик в нашем дворе на Арч-стрит, где мы устраивали ланч почти каждый день, если было солнечно? Сентиментальные картинки такого рода? Вероятно, нет. Вероятно, жизнь, которую я считал здоровой, тихой и хорошей, все время была для нее слишком тихой. Должно быть, то, что у меня было множество дел, полная до краев жизнь, а у нее только домашнее хозяйство, не давало ей покоя. Ее никогда не прельщали ни клубы преподавательских жен, ни бридж, ни родительские комитеты, ни благотворительность, ни игрушечный кооперативный магазин. Любила чтение, прогулки – довольно смирная женщина. Я думал, у нас хорошая жизнь.