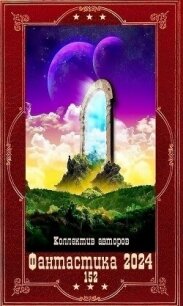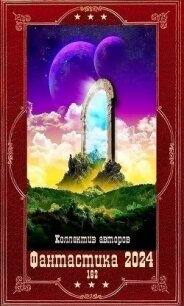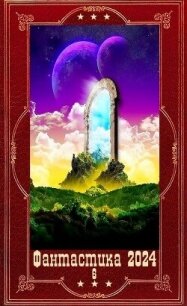Угол покоя - Стегнер Уоллес (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений TXT, FB2) 📗
Я никогда этого не пойму. Может быть, ближе к концу заметил бы что‑то, не будь так озабочен своим теряющим подвижность скелетом. Что я мог бы заметить? Не знаю что – помимо того, что она просто не очень счастлива. Но она заботилась обо мне. Тревожилась, я знаю. Когда сказали, что ногу придется ампутировать, плакала ночью в подушку.
И тем не менее всего через несколько месяцев она, женщина пятидесяти лет и тихая притом, оставляет мне, лежащему в больнице после ампутации, записку на прикроватной тумбочке, где говорится, что она от меня уходит. И кого, спрашивается, выбрала? Хирурга, который только что отпилил мне ногу, человека, чье реноме было, может, чуть повыше моего, но ненамного, и далеко не юношу, как минимум ее возраста, разведенного, со взрослыми детьми. Отдаю ему должное, он проявил такт, передав меня другому врачу и уйдя в длительный отпуск. Конфузно было бы для нас обоих, если бы он, живя с моей женой, продолжал вести меня как пациента. Хотя, возможно, они могли бы договориться и посещать меня по отдельности.
Почему? Как так? Из-за какой‑то неудовлетворенной прихоти? Или из‑за долго тлевшей неприязни? Желание уцепиться за былую молодость? Попытка вообразить, будто она не прошла? Но признаков такой суетности Эллен никогда не проявляла. Запоздалое стремление кем‑то стать, что‑то значить? Но разве у жены хирурга больше свободы, чем у супруги профессора-гуманитария? Наверняка гораздо меньше домашних вечеров вдвоем. Может быть, ее испугала, выбила из колеи менопауза? Пусть тогда на моем надгробии напишут, что мне вышла боком женская телесная химия. Но все равно непонятно ее отчуждение. Ведь это преходящее расстройство, и от него есть таблетки.
Что бы ни подтолкнуло ее к этому роману, он был несчастливей некуда. А теперь мне, новоявленному Ахаву [150], размачтованному и с туннельным зрением, пялящемуся себе в затылок через кривую оптику пространства-времени, надо глядеть в оба. Вынашивается заговор. Ее отчаяние активизирует Родмана, увеличивает его способность к принятию решений. Добавочный факт для его перфокарт. Готов биться об заклад, это Родман подговорил доктора Хайнза начать запугивать меня зимними трудностями и происшествиями.
Что мне, собственно, зима? Я могу жить в доме безвылазно. Буду выхаживать на костылях свои отрезки по пустым комнатам внизу. Устрою себе тут гимнастический зал, вихревую ванну и сауну, потрачу весь капитал на армию сиделок и тренера – что угодно, прежде чем дам им уговорами или силой увезти меня с моей горы в какое‑нибудь место, где можно будет припереть меня к стенке и пытками вырвать из меня христианское прощение.
Когда Эллен имела при себе своего дружка-хирурга, что‑то не звучало предложений простить и примириться. Какое несчастье для нее, что однажды он вышел прогуляться из их домика на озере Хантингтон и не вернулся. Тревога, неизвестность – в чем‑то похоже на мои переживания. Бросил ее? Покончил с собой? Сбежал с кем‑нибудь? Сошел с ума? Решил исчезнуть, подобно тем тихим людям, что каждый год тысячами уходят от обязательств, которых не в силах исполнять? Думаю, она была в исступлении. С некоторым интересом я следил за поисками по газетам. Две недели местность прочесывали поисковые отряды, бойскауты, лесники, вертолеты, пока первый снегопад не заставил их прекратить, навалив на Сьерра-Неваду два фута снега. Только следующим летом какой‑то рыбак обнаружил в ущелье его труп. К тому времени я был в реабилитационном центре – единственный там, кто был нацелен на реабилитацию.
И вот, кое‑как пережив это свое горе, Эллен возвращается и кажет осунувшееся лицо, снимает квартиру в Уолнат-Крике, возобновляет знакомство с сыном, которому, вероятно, не писала два года. (Или писала‑таки? Понятия не имею. Мы никогда с ним о ней не говорили, кроме одного раза, когда он был у меня тут.) Возможно, она дает ему понять – при том, что он не шибко верит в брак в ортодоксальном смысле, – что хочет, со своей стороны, что‑то простить и забыть, хочет проявить естественную заботу о бедном старом папе, если только он сделает встречную попытку понять и оставить прошлое позади.
Эти две несчастные старые развалины нужны друг другу, говорит, вероятно, Родман Лии и самому себе. Им лучше будет вдвоем. Почему нет? Самое разумное решение для них и для всех нас.
Я думал на эту тему. Что я тут могу? Я рассматривал возможность прощения, хотя, как мои отец и дед, я больше за справедливость, чем за милосердие. Не оставляет чувство, что если справедливость соблюдена, то никакого милосердия и не нужно. Я не хочу, чтобы она была наказана, мне не нужно око за око, надеюсь, я не злорадствую из‑за ее несчастья. Просто я не могу чувствовать к ней то, что чувствовал. Что‑то она разрушила. Я не вижу возможности пренебречь тем, что если берешь нечто желаемое и плевать на последствия, то будь, пожалуйста, готов эти последствия принять. И помню, на каких условиях заключается союз: в болезни и здоровье, в богатстве и бедности, пока смерть нас не разлучит.
А смерть – она ведь, я слышал, не подчиняется нашим прихотям, нашему выбору. Возможно, Эллен смекнула тогда, что я навеки инвалид, и решила подыскать альтернативу. (Как ни стараюсь, не могу в это поверить, хотя могу поверить, что ее врач-консультант дал ей соответствующий прогноз.) В моей семье жили долго; может быть, представила себе тридцать лет увядания в роли сиделки при безнадежном больном. Или, может быть, попросту пала жертвой неподобающего постменопаузного зуда. Думаю, скорее это, чем расчет.
Возможно даже, она не могла вынести моего вида день за днем – этой горгульи, которая раньше была мужчиной. Бывает ли так, что женщина уходит от мужчины из‑за невыносимой жалости? Или из страха перед тем, чтó жалость может сотворить и с ней, и с ним?
Если бы она ушла от меня, когда я еще был мужчиной, стоящим на двух ногах, с головой, способной отвернуться пристыженно или печально, я бы стал перебирать свои поступки и личные качества в поисках оправданий для нее – и нашел бы. Я принимал ее как должное, я пренебрегал ею ради своих исторических штудий, я гнул ее жизнь, чтобы вписывалась в мою траекторию, у нас была своя порция ссор. Но она не после ссоры меня бросила. Она бросила меня, когда я был беспомощен, и знала, как позорно выглядит, не посмела даже в лицо мне сказать, только записку положила, когда я спал после двух таблеток нембутала. Никаких обвинений в мой адрес, и приходится заключить, что ее в итоге отвратили от меня мои несчастья – ампутированная нога, негнущаяся шея, цепенеющий скелет.
Пусть катится к чертям. Она заработала мое презрение, а презрение не лечится ни социальными антибиотиками Родмана, ни детским правилом “чур, все было понарошку”.
Бабушка, хочу я сказать Сюзан Уорд, лелеющей свое недовольство зимой 1887‑го и весной 1888 года и в конце концов решающей уехать с Нелли и детьми в Канаду, на остров Ванкувер, в то время как Оливер во главе своей команды направляется в долину Джексон-Хоул, – бабушка, полегче. Не веди себя как оскорбленная викторианка строгих правил. Не теряй чувство пропорции. Спроси себя, сильно ли вредит его несчастливое питье тебе, вашим детям, ему. Не раздражайся из‑за мужниного невезения. Ты слишком многим рискуешь.
Разумеется, бабушка не услышала моих предостережений, которые летят вспять из тумана последствий, составивших ее будущее и мое прошлое. Она была не из тех, кто постоянно погружен в мрачные раздумья, но у нее были свои разочарования, обиды и тревоги, и она верила в высокие стремления, в утонченность, в элегантность. Она видела угасание своих надежд, ее гордость была уязвлена. Ее планам на будущее детей, казалось, не суждено было осуществиться. Та жизнь, от которой она отказалась, была и далекой, и давней, неправдоподобной, как мираж. Она заработала себе репутацию и некоторую известность, но все это было по почте, издалека – или в дамском кругу Бойсе, который она невысоко ставила.