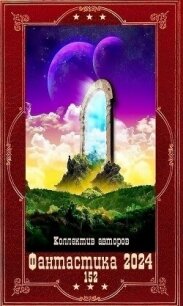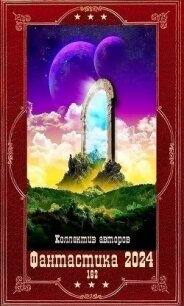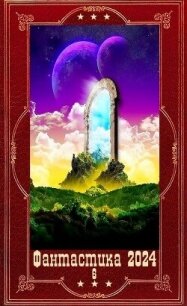Угол покоя - Стегнер Уоллес (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений TXT, FB2) 📗
– Предоставь мне самому с этим разобраться, – сказал он. – У меня лучше получается, когда никто не тянет и не подталкивает.
– Ты считаешь, я тяну и подталкиваю?
Он смотрел на нее молча.
– Если так, – сказала она чуть не плача, – если, по‑твоему, мне только и надо, что командовать и распоряжаться, лучше, может быть, мне уехать куда‑нибудь с детьми навсегда.
Он был точь‑в-точь норовистый мул. Ей прямо‑таки видно было, как он уперся задними ногами и пригнул уши. Устрашенная тем, что сказала, боясь, что отчасти так и думала, она вгляделась в его нахмуренное лицо.
– Вот это я и называю “тянуть и подталкивать”, – сказал он. Отошел от нее и уселся на стол, стал смотреть в окно на мост и Эрроурок. Он обращался теперь к окну – или к ее отражению в нем. – Ты намного лучше меня, – сказал он. – Думаешь, я не знаю? – Его глаза нашли в оконном стекле ее глаза и не отпускали. – Думаешь, я не знаю, через что заставил тебя пройти? Или, по‑твоему, мне безразлично? Но пойми, Сю, я не буду справляться лучше, если кто‑нибудь, пусть даже ты, пытается меня тащить. Я и так делаю все, что могу.
Не находя слов, обхватив себя руками, не утирая слез, бежавших по щекам, она смотрела на его призрачное, повернутое углом лицо в стекле, через которое просвечивали край каньона и небо.
– Обещание мало что значит, если я не дал его себе, – сказал Оливер. – Дам себе и нарушу – тогда строже себя накажу, чем ты можешь меня. Но могу представить себе, что нарушу. Вот, положим, я один, а вы все бог знает где, канала нет, компания банкрот, все эти годы псу под хвост – ну, я же буду об этом думать и тосковать. Не припомню, честно сказать, когда был в другом настроении. Я и сейчас в этом настроении, даром что письмо от майора Пауэлла. Ну и если, когда я так настроен, какой‑нибудь попутчик вытащит из переметной сумы бутылку, я, может, и помогу ему с ней управиться. А потом, скорей всего, махну в ближайший городок и добавлю. Я ведь знаю себя маленько.
Она покачала головой, по‑прежнему не утирая слез. В стекле увидела, как он досадливо передернул плечами.
– Думаю, пойду на эту работу, – сказал он. – Как нам еще быть? Мы расчихвощены. Но ты не заставишь меня ее полюбить.
– Не понимаю, – сказала Сюзан. – Пытаюсь понять, но не могу. Тебе не стыдно быть в таком… рабстве? Тебя не унижает мысль, что ты не сумеешь воспротивиться искушению, – при том, что, например, Фрэнк на своей железной дороге среди самых грубых людей на свете даже капли в рот не берет? Почему ты не можешь как Фрэнк?
И это была самая большая ошибка.
– Потому что я не Фрэнк, – сказал Оливер, глядя ей в отраженное лицо. – Может, тебе хочется, чтоб я им был, но нет.
В тяжком смятении она отвернулась от стекла, разъединила взгляд.
– Не хочется, – проговорила она в сторону. – Я просто не понимаю, почему ты не желаешь пообещать.
В его голосе, в который она чутко вслушивалась, стараясь восполнить то, чего теперь не видела, она не нашла ни нежности, ни любви, ни сочувствия – ничего, кроме скрипучего сопротивления.
– Не подталкивай меня, – сказал он. – Нет смысла замазывать все словами. Но одно я тебе скажу. Брать с собой ничего не буду. Я не Кларенс Кинг, который нагружал мула коньяком. Я не миссис Брискоу, которая припрятывала запасец.
Это был максимум, какой она могла от него получить. На этом и кончили.
– Если вам все еще нужен “мистер Боунз”, – сказала вчера Шелли, когда я около пяти часов вернулся из сада, – то у меня масса вопросов к дядюшке Римусу.
Не сказать, чтобы это было уместно. Я был уставший, разгоряченный, все у меня ныло, и я не нуждался ни в каких вопросах от “мистера Боунза”. Та потребность была чисто риторической. К тому же интерес Шелли досаждает мне тем, что на самом деле это не интерес к моей бабушке. Это некий умозрительный интерес к моей персоне – отчасти просто скука и желание поговорить. Муж опять пытался до нее дозвониться; возможно, она удивляется, что я про него не спрашиваю. Или, может быть, жалеет меня, запертого, как она считает, внутри себя. Она напоминает досужего взрослого, которому хочется присесть на корточки и помочь ребенку построить замок из песка на берегу.
Зря я даю ей перепечатывать эти пленки, но делать нечего. Я так долго работал глазом, что не могу доверять уху. Пока не увижу машинописный текст, сомневаюсь, что сделал что‑либо.
– Каких вопросов, например? – спросил я.
– Ну, например: она действительно думала расстаться с ним, или это ваша догадка?
– Не догадка. Я экстраполировал.
– Ух ты, прямо на ковер! Как не стыдно.
Разводить с ней дискуссии мне не хотелось нисколько. Мои запястья сковало, они болели, в культе дергало, я изнывал весь, от подножки до подголовника. Но когда повернул кресло, чтобы выехать обратно на веранду, где, будь со мной Ада, она дала бы мне чего‑нибудь глотнуть и оставила меня в покое, Шелли сказала:
– Я знаю, он сильно закладывал, когда они тут жили, так что, получается, не сумела она его отвадить.
– Откуда вы знаете?
– От папы. Он говорит, ваш дедушка был владельцем подземного месторождения на реке Юба, и папин папа возил его туда инспектировать. Они там, папа говорит, обманывали его бессовестно. Давали ему песок, а золото прикарманивали.
– Его легко было обмануть. Бабушка из‑за этого, помимо прочего, выходила из себя.
– Но милый же человек был, да? – спросила Шелли. – Все его уважали? Папа говорит, все на руднике считали его самым справедливым, на кого им случалось работать. Каждому давал второй шанс.
– И третий, – сказал я. – Но не четвертый. Если его довести, он мог быть неумолим.
– Как папа про него рассказывает, не похож он на неумолимого. И по вашей книге так не получается. Смех берет, как послушаешь про эти его трехдневные поездки в каньон Юбы и какие он там пьянки закатывал с моим дедушкой, с водителем. Пил, пил, пока не уснет, потом проспится – и домой.
– У него была хроническая душевная засуха, – сказал я. – Время от времени надо было орошать.
– Вы когда‑нибудь видели его пьяным?
– Как я мог понять? Я был мальчишка. Он никогда не шумел, не был расхлябан, ничего такого. Никогда не пил на работе и никогда, я уверен, не пил при бабушке. Он, каким я его знал, был человеком, вселяющим покой. Казалось, держит мир в руках и обеспечивает вращение. Помню, как он брал меня с собой в шахту.
– И?
– Да нет, ничего особенного. Просто… У него была большая теплая рука. Вы знаете, как на руднике “Зодиак” рядом с главным шахтным стволом, отделенный крепью, проходит водоотливный?
– Я никогда там не была. “Зодиак” закрылся, когда я еще не родилась.
– Правда?
Я удивился. “Зодиак” для меня очень реален. А для нее это даже не воспоминание, а всего лишь разваливающиеся постройки, заколоченный вход и уйма ржавого железа и троса в сорной траве.
– Это наклонный шахтный ствол, – сказал я. – Плунжер насоса уходит в глубину почти на милю. Насосы спроектировал дедушка – это была его первая работа, когда Конрад Прагер позвал его сюда, чтобы вернуть “Зодиак” в рабочее состояние после того, как нижние уровни затопило. От одного плунжера работало двенадцать насосов. Мы спускались по наклонному пути пешим ходом, но то и дело надо было отступать в деревянную крепь, чтобы пропустить вагонетку, и тогда ты чувствовал затылком, как в темноте трудится этот громадный плунжер. Он доползал до верхней точки, задерживался там на секунду, набирался сил и тараном шел вниз. Шахта всегда была полна глотающих, всхлипывающих звуков, они шли из темной глубины, где насосы откачивали воду. Двадцать четыре часа в сутки, семь рабочих ходов в минуту – медленный, тяжеловесный пульс. Старый корнуолец, который отвечал за насосы, всегда называл их в женском роде – “она”, но я, когда стоял там между стойками крепи и держался за дедушкину руку, всякий раз каким‑то образом представлял их себе частью его самого. В них ощущалась его надежность. Как будто они трудились у него в руке.