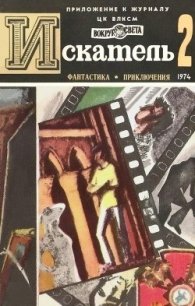Петля и камень в зеленой траве. Евангелие от палача - Вайнер Аркадий Александрович
– Молодец, Тихон, – хлопнул я его по плечу и, когда наклонялся, уловил еле слышный запах водочки от него, и состояние недопитости, острого алкогольного голодания, критической спиртовой недостаточности взрывом полыхнуло во мне, и осенило меня: – Давай выпьем за помин его души! У тебя там, в дежурке, наверняка флакончик притырен, давай царапнем быстрей по маленькой, пусть ему земля пухом будет…
Незамысловатая конвойно-сторожевая душа пришла в смятение, буря противоположных чувств вздыбила все ее караульно-служебные фибры: было лестно выпить запросто со старшим по званию, очень жалко собственной водки, манко дербалызнуть во время дежурства и противно поминать какого-то пархатого – ах как много сомнений и соблазнов пробудил я в охранном сердце Тихона своей озаренной интуицией пьяницы, способного в трудный миг высечь выпивку из камня!
И я добавил:
– Зелья не жалей, знаешь ведь – за мной не пропадет!
Не выдержал мой гольштинский вохровец, приволок початую бутылку – в ней еще граммов триста семьдесят плескалось – и, решившись наконец, стал сразу торопиться, чтобы не застал нас кто-нибудь из жильцов за нарушением в подъезде правил Устава караульной службы – распитием спиртных напитков на боевом посту охраны.
– Ну, Тихон, понеслась душа его в рай, ни дна ему, ни покрышки! Как говорится в старинной вашей вологодской поговорке: зэк с этапа – конвою легче! Эхма! Х-ха!
Заглотнул я стаканяру – будто атомный стержень в реактор спустил, и пошла во мне сразу термоядерная. А Тихон подсовывает закусить соленый огурчик, потускневший от старости. Зеленая вода морская, пенный прибой огуречного сока прошлогодней засолки.
И брауншвейгец мой пригубил, присосался к стакану, вонзился в его хрупкое стеклянное тело, как упырь в ангелицу.
Выцедил до капли, вампир чертов, крякнул сипло, утер хлебало тылом ладони. Все.
Продышался я чуть, губы опаленные облизал и, чтобы в расставании подчеркнуть высоту повода для нашей выпивки, сказал:
– Вот так-то, брат Тихон Иваныч, крути не крути, а народ они вечный. Тысячелетия уже вымирают, а все никак не вымрут…
Альпийские льдышки глаз моего штирийца залило теплой талой водой, засмеялся он громко, неуставно:
– Вечный! И клоп – вечный! Клопа ни время, ни мороз, ни яд не берут. Хоть век его вымаривай, а от живой крови вмиг воскреснет…
Я мчался на встречу с Мангустом, и тепло караульной водки давало мне скорость и высоту. И конвойное благовещение согревало истерзанное сердце: вечность евреев не больше и не удивительнее неистребимости клопов. Прошу вас намотать это на ваши пейсы, уважаемые господа юдофилы, дорогие жидолюбы! Глас народа, можно сказать. Крик души простого человека, как бы от соли. От сошки. От сошек ручного пулемета Дегтярева. О великий рабоче-крестьянский инструмент, незаменимый, когда народонаселение, не понимая своей выгоды, не видя своего счастья, в стройных колоннах по пять человек в шеренге начинает переговариваться, выходить в сторону и кричать конвою оскорбительное!
Нет, Мангуст, дорогой мой, нам друг другу ничего не объяснить, мы друг друга понять не сможем. Ты хоть и зять мой несостоявшийся, вроде бы родственник, но истина мне дороже. А состоит истина в том, что я бы смог всерьез опечалиться твоей судьбой, кабы сам был бессмертен. Но у меня в груди выросла злая фасолька, и мне жалеть тебя глупо.
Мы ведь с тобой оба люди интеллигентные и должны с уважением и терпимостью относиться к жизненной задаче другого.
Ты разыскал меня и доволен, небось, невероятно: ты хочешь вершить ЛЭКС ТАЛЬОНИС, закон возмездия.
Я не искал тебя и как юрист не признаю закона возмездия.
И как человек – тоже не признаю.
Но я должен убрать тебя, ибо ты просто так не отвяжешься, и твое исчезновение – это мой единственный МОДУС ОПЕРАНДИ, способ действия…
– Нет, Сема, я тебе точно говорю – не искал я его, он меня сам нашел, и другой МОДУС ОПЕРАНДИ здесь не пляшет… – сказал я Ковшуку, царившему в полупустом сиренево-сумрачном вестибюле гостиницы.
Здесь, слава богу, никогда не бывает толпы – проживают только сановные или очень богатые иностранцы, которые называют «Советскую» «Бархатной» из-за вопиющего пошлого богатства любимого Сталиным стиля «вампир». Сам доктор Конрад Аденауэр одобрил. Не знаю уж, догадывался ли старый пердун, что здесь каждый вздох его был записан на пленку.
И друг мой, боевой соратник Ковшук Семен Гаврилыч, любил свою гостиницу, патриотически гордился ею перед приезжими иностранцами, снисходил к их искреннему удивлению этими нелепыми хоромами с мраморным вестибюлем, понимал, что им, говноедам, при скудном экономизме их жизни такой роскоши не осилить. Стоял сейчас швейцарский адмирал посреди своей азиатской гавани, мрачно шевелил усищами нелепых бровей, на меня смотрел строго:
– С утра налузгался?
– Сема, окстись! На часы глянь – почти пятнадцать! Трудящиеся, можно сказать, уже досрочно дневной план завершают. А у тебя все еще утро! Нет, Семен, не живешь ты со всем народом в одном ритме, не чуешь пульса страны! Совсем ты тут с иноземцами забурел!
Набычился Ковшук, распустил бледные брылья, надул их недовольным буркотеньем – стоял он передо мной, как вся наша жизнь: такая вроде бы важная и такая глупая, грубая, грозная, грузная, грязная.
– Не брюзжи, брудастый бурый буржуаз, не бурчи, дорогой мой Семен Гаврилыч, – сказал я ему задушевно и ласково взял его под руку, повлек за собой безоговорочно к бару. – Не стой, роднуля, как витязь на распутье над старыми черепами, плюнь, мы с тобой сейчас выпьем…
– Я днем не пью, – мрачно поведал Ковшук.
– Надо избавляться от старых пороков, – уверенно сказал я. – Не гордись, Сема, своими слабостями. Мы ведь с тобой люди на все времена.
– Мне так много не надо, – усмехнулся Ковшук. – Свои бы годы изжить по-тихому…
– Перестань, Семен, и слушать не желаю! Нам ли стоять на месте – в своем движении всегда мы правы! Таким нас песням учили?
– Где они, эти учителя песельные?
– В нашем горячем сердце! – воскликнул я. – В нашей холодной голове и чистых руках беззаветных рыцарей из ВэЧиКаго…
Бросил подкатившемуся бармену десятку и велел дать два сухих мартини.
– Ничего, Семен, что мартини? – спросил я, извиняясь. Они ведь все равно мне «сливок» не дадут, это твой специалитет…
Семен довольно кивнул брыластой мордой утопленника.
Чокнулся я с ним своим бокалом, звякнули тоненько льдинки внутри, маслинки подпрыгнули, и потекла в меня душистая горьковатая живая вода из прозрачного цилиндрика, как камфора из шприца в умирающее от удушья тело.
Допил до донышка, льдинки губы обожгли, долька лимонная на язык бабочкой опустилась, и фасолька Тумор, будто сверлившая непрерывно дырку в моей груди, захлебнулась мартини, утонула в нем, замолчала.
Посмотрел я на Ковшука, а тот бокал свой пригубил, на стойку поставил, к бармену подвинул, кивнул важно адмиральской фуражкой, а тот – коктейльная муха липкая – понятливо залыбился, схватил мартини и захлопнул бокал в холодильник.
– Ты чего, Сем? – удивился я. – Мартини не нравится?
– Мне, Паша, что мартини, что «сливки» – один хрен. А Эдик, – он кивнул на бармена, – подаст его какому-нибудь фраеру вроде тебя, а мне трояшечку вернет. Мне – польза, тебе – радость от шикарной жизни, и Эдику заработок, рубль тридцать пять. Вот все и довольны…
И я как-то потускнел от его слов, скукожился, пропал мой азарт. В этом жестком злом големе – под многослойными напластованиями отечных складок, нелепых бровей, грязноватого сукна швейцарского мундира, далеко за желтыми галунами убогой униформы – было какое-то неведомое мне знание, большее, гораздо большее, чем в старых, сожженных мною накануне листочках, знание мне чуждое, опасное, страшащее.
И очень далеким предчувствием, слабым тревожным ощущением ошибки мелькнула вялая мысль, что зря я доставал топор из-за порога. Столько лет пролежал – не надо было трогать, пускай и дальше валялся бы в небытии, пока ржа времени окончательно не источила бы его до истлевшего обуха.