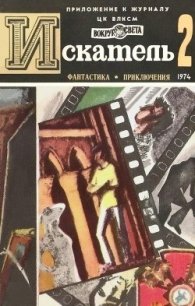Петля и камень в зеленой траве. Евангелие от палача - Вайнер Аркадий Александрович
А мне уж не до сумки было, бог с ней, с сумкой, – сама бы не ушла. Мне бы за это голову оторвали. Кернис все время оборачивалась, фиолетовым перепуганным глазом косила, прядь длинная выбилась из-под косынки, задыхалась, торопилась, почти бежала.
И толчея, суета на перроне разделили нас на миг, потеряла она меня из вида, по ее спине было заметно, как передохнула она свободно, и, когда, пробуравив плотную мешанину тел у края платформы, я вынырнул снова рядом с Кэртис – свистнул пронзительно на другом конце перрона поезд, вырвавшийся на свет из черной кишки туннеля. Кернис обернулась и увидела меня снова рядом и что-то попыталась сказать-крикнуть всем вплотную стоявшим людям, но страх смерти уже парализовал ее, только судорожно дергался рот, и ее хриплый английский шепот никто не услышал – грохотал и свистел подкатывающий поезд, электрическое чудовище визжало колодками тормозов и мелькало лобовыми огнями, оно уже было рядом, и Кэртис напряглась в надежде успеть прыгнуть в открывающуюся дверь.
Но поезд к нам еще не подъехал. Он еще только приближался – метров пять осталось, и гнал он вполне прилично. А она оглянулась.
И в то же мгновение я незаметно и очень резко ударил ее ногой под колени – толчок такой «подсед» называется – и еле-еле подпихнул ее надломившееся тело к краю платформы, навстречу быстро подкатывавшемуся металлическому лязгу.
Летела Кэртис под поезд бесконечно долго, будто в воде плавно переворачивалась. Я видел ее постепенно запрокидывающееся лицо, повисшее над рельсовой бездной, черные спутанные волосы, парусящий куполом белый плащ, почти вертикально воздетые ноги, ослепительную белизну бедер над бежевыми чулками и оторвавшуюся набойку на одной туфле.
И испытывал к ней в этот миг нечеловеческой силы желание, небывалое море похоти затопило меня, пока взрыв этих чувств не стерли короткий булькающий хрип, тупой, чвакающий удар, остервенелое шипение и замирающий стальной визг.
Секунда тишины, крик, вопли, ошалевшие лица, людской водоворот, штопорный крутеж в толпе – и прохлада улицы, огромная опустошенность отвалившихся друг от друга любовников…
Блазн? Сон? Кэртис – была ли ты в яви? Или ту – из метро – звали Кернис?
Господи, зачем так прихотливо вяжешь запутанную нить моей жизни? Почему Ты на платформе метро «Бранденбургские ворота» свел меня с Кэртис, дав с ней, а не с Мариной волшебную сладость глубочайшего соития – убийства?
Может быть, потому, что Марина ходила тогда в детский сад?
А детьми я не интересуюсь.
Мои дети интересуются мной – дочурка Майка и зятек Мангуст.
Ох как хочется маленькому Мангусту вцепиться мне в шею, сжать посильнее, рвануть кожу, ужевать у горла еще кусок, натянуть крепче!
Ну что ж, наверное, не надо мешать ему. Ведь он, глупый маленький зверь, смотрит на старую усталую кобру, Хваткина П. Е., и не знает, что у нее припрятан ржавый, но остро наточенный топор.
А моей закаленной натруженной шее ничего не станется, опосля схватки отойдет. Тут, зятек мой дорогой, ошибочку вы давали: я не кобра.
Я – акула.
Милая эта рыбешка всеядна, вечна и непобедима, потому что не чувствует боли. Избавил ее Создатель от этой слабости – не зная боли, акула в бою до последнего вдоха неукротима.
Я – как акула. Не ведаю боли. Если только не прорастает в средостении фасолька по имени Тумор.
Ну а так-то мне на боль плевать.
Поскольку боль связана с любовью. Так же неразрывно, как убийство с коитусом.
Ничего не поделаешь: обязательный ассортимент, как в нашем отделе заказов – шампанское с бельдюгой. Раз уж одарила природа людей радостным безумием любви, то и боль обязательно берите, дорогие граждане.
А коли ты никого, да и себя самого, не любишь, то ты и боли не знаешь.
Если не лопаются в груди жесткие колючие створки серозной фасоли.
Эх, Мариша, вожделенная моя подружка, пропади ты пропадом, помчусь на встречу с глупым зверьком, не смекающим пока, что весь он состоит из чужой любви и собственной острой боли.
Захлопнул дверь за собой и в лифт вскочил почти на ходу, как когда-то на подножку уезжающего трамвая. Пятнадцать этажей пролетел мой спускаемый аппарат, совершил мягкую посадку в заранее намеченной точке евразийской пустыни, населенной странным народом по имени «руссь», распахнулся шлюзовой люк, и коренное население в лице Тихона Иваныча торжественно встретило меня. Торжественно, но несколько печально.
– Покойник в доме, – сделал он официальное сообщение.
Все-таки общий развал дисциплины в державе и на нем, старой служивой собаке, сказался: знает ведь, сторожевой, что по уставу в рапорт по лагерю включаются не только умершие, но и направленные в больницу, и выведенные за зону на общие работы, но – ленится, конвойный пес, докладывать все, отделывается клубничкой.
– Что – скоропостижно? Без причастия? – ахнул я.
– Оне не причащаются, – треснул в улыбке подсохший струп его рта. – Яврей из девяносто шестой квартиры, Гиршфельд им фамилия…
И, не заметив во мне понимания, должной реакции, пояснил неспешно:
– Те, что в побег намылились. Профессор он, вам давеча машину мыл…
А-а-а! Вон что! Я ведь и фамилии его не знал. Вот народец суетливый – уложился в сжатые сроки, как на колхозном севе. Вчера машину мою мыл, на сдаче моральный капитал себе собирал, а сегодня уже копыта отбросил. Не дождался обещанного мною межгосударственного потепления, бедный рефьюзник. Да-те-с, вот теперь-то он получил отказ окончательный.
Для остальных евреев, правда, и это не урок, им трудно усвоить, что вся человеческая жизнь – это долгое рефьюзничество, не хотят понять, что в конце концов нас всех ждет окончательный Отказ. Они так рвутся в свой Эрец Исроэл, будто там, на краю бытия, можно получить визу на выезд в другую жизнь.
А ведь евреи уже долгие века, целые тысячелетия мрут энергичнее и компактнее остальных народов. Несколько исторических эпох сменилось, и все время они на грани исчезновения. Да вот не вымрут никак…
– Инфаркт хватил, раз – и нету, – докладывал мне Тихон деловито-скорбно, и я угадывал в нем тайную радость конвойного, в самую последнюю минуту не прозевавшего зэка, намылившегося с этапа. Всякий художник ищет завершенности, любой человек надеется увидеть результат своей работы.
– А так-то люди оне тихие были, – рассказывал Тихон. – Не знаю, чего уж про себя думали, может, злость копили… А так – ничего не скажу: тихо вели себя, не нарушали…
Не нарушали. Замечаний по режиму не было. А вот гляди-ка – в побег намылились! Да не поспели. Интересно знать, если бы я рассказал ему вчера, когда он сговаривался со мной насчет мойки «мерседеса» и все норовил оскорбить меня сдачей, если бы я ему сообщил, что однажды, много лет назад, я чуть было не организовал всему его племени окончательный отказ? Он бы враз забыл о рублях сдачи, он бы пришел в такое волнение, испуг, ненависть, гнев, так напрягся бы! Я бы расширил ему сосуды лучше всякого нитроглицерина! И он наверняка не умер бы. Никто не знает, в чем спасение. Да и я не знал, что ему суждено откинуть хвост. А если бы и знал – все равно ничего не сказал бы.
Спаси я его от смерти, он – в благодарность – от волнения решился бы нарушить режим, собрал бы американских корреспондентов, чтобы сообщить им мою тайну, и вышла бы мне исключительная бяка.
Нет, жизнь – штука довольно сложная, а смерть – удивительно простая, и не надо путать кислое с пресным, никогда не следует забывать первую заповедь нашей «вита нуова»: все друг другу – враги.
Дедушка нашего самообразования, почтенный Михаил Васильевич, корифей русского ликбеза Ломоносов правильно указывал: если кому-то чего-то прибыло, значит от тебя этого «чего-то» – убыло.
И я спросил Тихона серьезно:
– А тебе, Тихон Иваныч, никак усопшего жалко?
Он перевел на меня свои голубые глазки, незабудковые, простые, лубяные, исконно-мудрые:
– Жалко? – и усмехнулся длинно. – Чего ж об умерших жалеть? Павел Егорович, о чужой смерти тужить может только тот, кому вечная жизнь обещана. Бессмертный то есть. А нам-то – чего жалеть? Сами в свой час помрем.