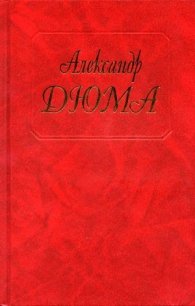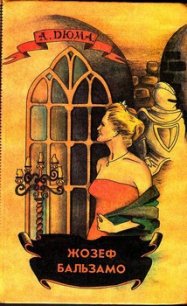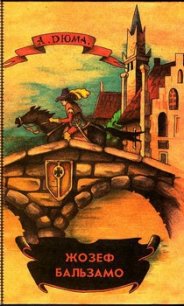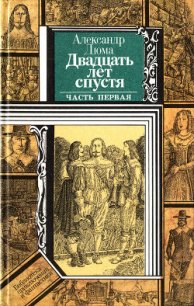Анж Питу (др. перевод) - Дюма Александр (первая книга .txt) 📗
Посмотрите на генерала Лафайета: стройный, белокурый, ростом не выше Клода Телье; нос у него остренький, ноги маленькие, руки не толще перекладины вот этого стула, да и что он может сделать такими-то руками? Ничего ровным счетом. И что же? Этот человек на своих плечах удержал два мира, вдвое больше, чем Атлас, и его крохотные руки разбили оковы Америки и Франции.
И если его-то руки, не толще вот этих перекладин, оказались способны на такое, судите сами, что я натворю своими ручищами.
И Питу выставил на всеобщее обозрение свои руки, узловатые, как стволы остролиста.
Этим сравнением он и завершил свою речь, воздержавшись от выводов, потому что и так не сомневался в огромном впечатлении от своих слов.
Впечатление и в самом деле было огромное.
XXXIII. Питу-заговорщик
Большая часть событий, происходящих в жизни человека и дарующих ему великое счастье или великую славу, проистекает, как правило, либо из могучей воли, либо из могучего презрения.
Если вдуматься в то, насколько оправдывается эта максима на примере выдающихся исторических деятелей, мы обнаружим, что она не только глубокомысленна, но и верна.
Не приводя иных доказательств, удовольствуемся тем, что применим ее к нашему повествованию и его герою.
И впрямь, Питу – коль скоро нам будет дозволено вернуться чуточку назад и напомнить о его сердечной ране, – итак, Питу, после открытия, сделанного на лесной опушке, преисполнился величайшего презрения к суете мира сего. Он так надеялся, что в душе у него будет расцветать драгоценный и редкостный цветок, который зовется любовью; он вернулся на родину в каске и с саблей, гордый тем, что примирил Марса с Венерой, как выразился его знаменитый соотечественник Демустье в «Письмах к Эмилии о мифологии»; и теперь он с горем и растерянностью обнаружил, что в Виллер-Котре есть и другие влюбленные, кроме него.
Столь деятельный участник крестового похода парижан против знати, он спасовал теперь перед сельским дворянством, воплощенным в Изидоре де Шарни.
Увы! Его соперник – красавец, располагающий к себе с первого взгляда, кавалер в кожаных штанах и бархатном кафтане!
Как одолеть такого человека?
Человека, обутого в сапоги для верховой езды, сапоги со шпорами; человека, к брату которого доныне многие обращаются, титулуя его «монсеньором»!
Как одолеть такого соперника? Как удержаться от стыда и восхищения, двух чувств, которые причиняют двойную муку ревнивому сердцу, и мука эта тем более ужасна, что неизвестно, что сильнее ранит ревнивца – сознание превосходства соперника или сознание собственного превосходства!
Итак, Питу изведал ревность, неизлечимую язву, щедрый источник страданий, неведомых доселе честному и простодушному сердцу нашего героя; ревность, самое ядовитое на свете растение, всходящее там, где никто его не сеял, на почве, где до сих пор не прорастало ни одно недоброе чувство, даже тщеславие – сорняк, проникающий на самые ухоженные грядки.
Чтобы обрести привычный покой, такому истерзанному сердцу необходимо прибегнуть к самой что ни есть глубокой философии.
Был ли философом Питу, который на другой день после столь ужасного потрясения замыслил поход на кроликов и зайцев герцога Орлеанского, а на третий уже произносил страстные речи, которые мы здесь привели?
Обладало ли его сердце твердостью кремня, из которого любой удар высекает искру, или рыхлой упругостью губки, имеющей свойство впитывать слезы и без ущерба для себя смягчаться под ударами судьбы?
Ответ на это даст будущее. Не будем же строить догадки и вернемся к нашему повествованию.
Когда речи закончились и посетители удалились, Питу, снизойдя под влиянием голода к более низменным заботам, принялся за стряпню и уплел крольчонка, сожалея, что то был не заяц.
В самом деле, будь на месте крольчонка заяц, Питу не съел бы его, а продал.
Это была бы не столь уж пустяковая сделка. Заяц стоил, смотря по размерам, от восемнадцати до двадцати четырех су, а Питу, хоть у него и оставалось еще несколько луидоров, полученных от доктора Жильбера, был не то чтобы скуп, как тетка Анжелика, но унаследовал от матери изрядную долю бережливости, а посему был бы рад присоединить эти восемнадцать су к своему богатству, тем самым округлив его вместо того, чтобы транжирить.
Питу рассуждал, что человеку вовсе не требуется тратить на свое пропитание то три ливра, то восемнадцать су. Не всем же быть Лукуллами, и Питу полагал, что на восемнадцать су, вырученных за зайца, он прокормился бы целую неделю.
А кроме того зайца, который попался бы ему в самый первый день, он сумел бы изловить еще не меньше трех за остальные семь дней, вернее, ночей. Таким образом, за неделю он обеспечил бы себя пропитанием на месяц.
Исходя из этого, на год ему хватило бы сорока восьми зайцев, а остальные уже оказались бы чистым барышом.
Таким подсчетам и выкладкам предавался Питу, расправляясь с крольчонком, который вместо того, чтобы принести ему доход, вверг его в расходы, потребовав на су масла и еще на су немного сала. Лук Питу добыл бесплатно, надергав его на общинном огороде.
«Попил, поел, отдохнул от дел» – гласит пословица. После трапезы Питу отправился в лес на поиски укромного местечка, чтобы соснуть.
Нечего и говорить, что с тех пор, как бедняга завершил политические споры и остался наедине с самим собой, перед его мысленным взором непрестанно возникал господин Изидор, любезничающий с мадемуазель Катрин.
Дубы и грабы содрогались от его вздохов; природа, всегда любезная тем, у кого набит живот, не оказывала на Питу своего обычного воздействия и представлялась ему обширной и мрачной пустыней, где остались только зайцы, кролики и косули.
Укрывшись под сенью больших деревьев в своем родном лесу, Питу воспрянул духом под влиянием тени и прохлады и укрепился в героическом решении скрыться от глаз Катрин, предоставить ей свободу, не подвергать себя все новым унижениям, неизбежным при сравнении с соперником.
Чтобы не видеть более мадемуазель Катрин, ему требовалось совершить над собой мучительное усилие, но мужчина должен вести себя по-мужски.
Впрочем, вопрос этим не исчерпывался.
В сущности, дело было не в том, чтобы Питу не видел мадемуазель Катрин, а в том, чтобы она его не видела.
Но что помешает дерзкому влюбленному время от времени украдкой подстерегать где-нибудь на дороге жестокую красавицу и смотреть на нее? Ничто не помешает.
Далеко ли от Арамона до Пислё? От силы полтора лье, рукой подать.
Если домогаться внимания Катрин после всего, что он подсмотрел, было бы со стороны Питу низостью, то узнавать, что она делает и где бывает, было бы, напротив, свидетельством его ловкости, и такое упражнение пошло бы лишь на пользу его здоровью.
К тому же леса, простиравшиеся от Пислё до самого Бурсона, кишели зайцами.
Ночами Питу будет расставлять силки, а наутро с высоты какого-нибудь пригорка оглядит окрестность и проследит за передвижениями мадемуазель Катрин. Это его право и даже в некотором смысле его долг в силу полномочий, которыми облек его папаша Бийо.
Одержав таким образом победу над самим собой, Питу решил, что пора покончить со вздохами. Он закусил огромной краюхой хлеба, которую захватил с собой, а когда наступил вечер, расставил дюжину силков и растянулся в вереске, еще хранившем дневное тепло.
Там он и уснул сном отчаяния, то есть мертвым сном.
Его разбудила ночная прохлада: он обошел свои силки; в них еще не угодила никакая живность, но Питу и не надеялся ни на что до наступления предрассветной поры. Голова у него между тем несколько отяжелела, и он решил, что вернется домой, а под утро наведается в лес снова.
Но если для него этот день оказался беден на интриги и события, то обитатели деревушки провели его в размышлениях и хитроумных расчетах.
В дневные часы, покуда Питу дремал в лесу, дровосеки застыли, опираясь на свои топоры, молотильщики позабыли о цепах, плотники перестали шаркать рубанками по доскам.