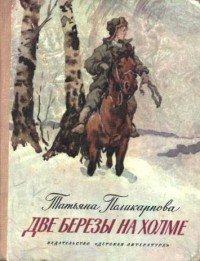Женщины в лесу - Поликарпова Татьяна (полные книги .txt) 📗
Ну, кажется, и это пережили. Пошла я снова работать. Изголодалась, можно сказать, по любимому делу. Дома сил хватало только на детей. Муж опять сделался как чужой. Не глядит, не разговаривает. А летом поехал он в дом отдыха…»
Вот она и подошла к итогу всех своих решении и поступков, к моменту, с которого уже начала вырисовываться последняя строка баланса.
Зоя Михайловна увидела себя как бы со стороны в тот жаркий день, когда муж вернулся с отдыха. Она шла домой рано, в шесть часов, несла торт, купленный по дороге, и свежие огурцы — дар кого-то из сослуживцев из собственного огорода. Она шла и посматривала на окна своего дома. И вдруг услышала голос мужа. С балкона доносилось: «Ничь така мисячна…» Господи, поет! Удивилась она и обрадовалась. В добром настроении… Взбежала на свой пятый этаж, как девчонка. Сперва-то и не разобрала на радостях, а потом почувствовала, что он хоть и спокоен и ровен, и с ней разговаривает, и в сторону не глядит, но будто отдален от нее. Будто они на разных берегах. Очень странное такое чувство. Вот, рядом, за столом, а словно далеко-далеко… Сначала, конечно, о себе она подумала, что это она отвыкла от него за двадцать четыре дня. Потом уж, когда узнала, в чем дело, поняла, что в тот первый день все верно почувствовала: его с ними уже не было.
Сейчас в чужом городе, среди ночи, в случайном гостиничном номере, как наяву пережила она недоумение, удивление, боль и страх того субботнего часа, когда, прибираясь в квартире, вымела из-под тахты письмо, вернее страничку из письма — листок из школьной в клеточку тетради, исписанный чужим почерком. Даже послышался ей запах мокрой тряпки, мешковины, которой она орудовала, протирая пол. Присев на корточки перед тахтой и положив на нее листок, принялась читать. Интересно — про любовь: «…голос твой слышу: «Рыбка моя! Голубонька! Полюбил тебя на всю жизнь!» Так мечтаю скорей быть вместе с тобой! Это ведь правда — на всю жизнь? Мечтаю глаза твои синие, брови твои длинные целовать». Зое Михайловне было интересно, пока она в самом конце странички вперемежку с поцелуями не увидела имя собственного мужа во всех возможных ласковых вариантах. Ноги под ней ослабли, она села прямо на влажный пол, и сердце в ней замерло, а потом из него будто выбросился фонтан кипятку, ударил в голову и пролился вниз по телу, по левой его стороне. Она еще пыталась доказать себе, что имя мало что значит, имя у мужа самое обычное, таких имен — через одного… Но все равно откуда-то знала, что это он… Откуда-откуда… Все оттуда же, из письма: «синие глаза, длинные брови»… Да и каким образом попадет письмо к другому мужчине под их тахту…
Она ничего не сказала мужу. Язык не поворачивался. Боялась, как скажет вслух, так все — сделается с ней что-нибудь.
Потом и еще находила обрывки писем. Даже его письма к той «рыбоньке», начатые и, видно, брошенные. И вдруг ей пришло в голову: уж не нарочно ли он разбрасывает эти письма? Чтоб таким образом дать ей понять, что с ней все кончено? И сразу будто успокоилась. Поняла: готова к разговору.
Она уже знала, что Нина, так звали «рыбоньку», считает ее мужа холостым (стало быть, врал ей про себя), зовет его к себе, чтоб стал ей мужем. Значит, поняла Зоя Михайловна, не опасается его, уважает, готова соединить с ним жизнь. И удивилась своему удивлению, и поняла, что это она сама, битая, мученая Зоя, собственными руками и жизнью своей сделала возможной эту любовь к ее мужу посторонней женщины. Сама она не слыхала ни Одного из тех милых слов, которые ее муж писал той Нине…
Зоя Михайловна очнулась от резких звуков в гостиничном коридоре: громыхнула дверь, застучали каблуки, раздались восклицания: заступала утренняя дежурная по этажу. Значит, уже утро…
Зоя Михайловна испугалась, что не успеет закончить письмо, и принялась писать:
«В доме отдыха муж познакомился с девушкой, моложе его на двенадцать лет, учительницей. Не скрывал от меня своей с ней переписки. Как я мечтала когда-то о любви. И вот я узнала, что он может ухаживать за женщинами, быть вежливым, ласковым, умеет говорить слова любви. Вся моя жизнь, все мои мучения с ним, оказалось, были ради того, чтобы сделать из него человека для другой женщины.
Но я все же просила его подумать о сыновьях. Со мной давно было покончено как с человеком, это было ясно в день моего замужества. Но как сыновьям без отца. Это плохо. Я просила его написать ей правду о нашей семье. Отказался. Просила ее адрес, чтобы написать самой. Не дал. Говорит, не лезь в душу. Тогда я решилась. Собрала его вещи в чемоданы, выбросила на лестницу, сказала: «Теперь все. Жди развода». И больше ничего не помню. Очнулась, маленький звал меня: «Мама, встань! Встань!» А старший плакал. Он очень меня поддержал тогда, мой старший сынок. Ему было шестнадцать лет. Он говорил мне: не горюй, пусть себе уходит. Мы с тобой вдвоем воспитаем Вовку. Буду ему и отцом и братом.
И наверное, я бы привыкла. Обтерпелась. Жила бы с детьми, может, еще и лучше. Но через две недели муж пришел просить прощения. Я впервые увидела, как он плачет. Уверял, что не может жить без нас, а той девушке больше не пишет.
Но я уж ничего не хотела. И мне стало жалко ту девушку Нину, обманул он ее. Я сказала ему: извинись перед ней, тогда будешь с нами. Но тут от нее самой пришел ему вызов на телефонный разговор. А он испугался. Не захотел идти. Мне же и пришлось с ней говорить».
Зоя Михайловна снова ощутила свои одеревеневшие ноги там, на переговорном пункте, когда гремящий жестью голос из динамика назвал фамилию ее мужа, город той учительницы и номер кабины. Так громко, так нагло, словно всем напоказ. В душной кабине, чувствуя, как сразу вдоль спины щекотно побежала струйка пота, взяла трубку, и в ухо ей ударило звонкой радостью и тревогой: «Алло! Это ты? Что случилось?» Сильный молодой голос. И Зоя Михайловна ответила подготовленной фразой: «С вами говорит жена такого-то и мать двух его сыновей». Она и сейчас слышала свой безжизненный ровный голос. И в трубке какое-то время жило лишь слабое шуршание и потрескивание — фон долгой линии связи. Потом Нина заявила, что она ни грамма (так и сказала) не верит, что это шантаж.
Мужу все-таки пришлось написать ей письмо и объясниться и попросить прощения.
«Вот и все. Сейчас я слышу от мужа то, что не слышала никогда. Что я самая лучшая женщина. Что никого, кроме меня, ему не надо. Что за две недели он понял: без меня и детей ему не жить на свете. И я — незаменима.
Но, видно, всему приходит конец. Многое может вынести человеческая душа, но и ее возможности не беспредельны. Во мне теперь одна усталость. Все безразлично. Я была бы рада смерти. Даже работа не дает отдыха моей душе.
Если б хоть он молчал. Не говорил бы мне признаний в любви. Мне гадко от этого и хочется все-все забыть. Память мучает меня. Я не верю словам мужа.
Мне кажется, он притворяется, играет роль, чтобы его не выставили за дверь. И тогда он кажется мне еще страшнее, чем в юности, когда я стала его женой.
Раньше временами думала: не напрасно страдала, — стал человеком мой муж. Но когда он до конца признал меня, наградил «незаменимой», меня уже нет как человека. Я пуста, жить мне больше нечем. А жить надо. Для сыновей. Может, они принесут кому-то счастье, которое прошло мимо меня».
Зоя Михайловна подписалась, написала свой адрес, извинилась, что не придет на ужин, так как уезжает днем, и пошла на четвертый этаж, чтобы подсунуть письмо под дверь номера журналистки.
АНТОНОВЫ АВРАЛЫ
Антон и Антонина были парой будто на заказ. Будто кто-то хорошо подумал, прежде чем свести их вместе. Даже имена схожие подобрал, чтоб не сомневались, встретясь.
Ростом оба высокие, и Антон, как и положено мужчине, чуть-чуть, так на полголовы, выше Антонины. И стать у обоих легкая, хоть уже дочь выдали замуж и сын, младший их, в армию ушел. За сорок им наверняка перевалило.
Тоня и стройна, но, как и положено женщине, округла, гладка, что руки, что ноги, что талия — высокая, по-девичьи, и гибкая. И живот как у девчонки — плоский, словно и не рожала.