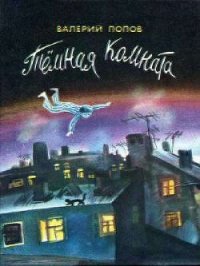Русская народно-бытовая медицина - Попов Г. (чтение книг TXT) 📗
В отдельных случаях обращение с ними доходит еще до большего бессердечия, граничащего с совершенным зверством. В деревне возможно наблюдать картины, как соседи, опасаясь беды и желая «отвадить» помешанного, кидают в него камнями и бьют батогами, как сын во время припадка матери «учит» ее железной палкой, а дочь, боясь подойти близко, бросает ей, уже сидящей на цепи, издалека куски хлеба.
Иногда, больного сознательно морят голодом. «Нельзя же его кормить, когда он вроде зверя сделался. Вот, он, не евши, что делает, а если его поить и кормить каждый день, то он забушует еще не так: все-таки, не пивши, не евши, у него будет меньше силы». Другие убеждены, что, кроме голода, полезны для такого больного и побои, если только они соединяются с кровотечением. Для этого нужно только, непременно, бить больного по голове и по носу: «кровь дурная сойдет, вот, он и поумнеет». Битье по другим частям считается иногда, даже неправильным и строго осуждается: «надо знать, по какому месту бить» (Орлов, г. и у.).
При таких условиях, конечно, лучшим исходом для каждого из буйных помешанных является смерть. Вероятно, в тайниках сохранившейся души ее желают и сами больные, но еще чаще – их родные и семейные. «Вот, умирать не умирает, только время проводит, – негодуют они на больного. – «И где это смерть, матушка? – плачут, глядя на него, сердобольные бабы: – чего же она его не приберет?».
Рассказ
Помещаемый здесь рассказ иллюстрирует типичную картину положения помешанных в деревне, взгляды на них деревенского населения и их печальную конечную судьбу.
«– Ну, что же, Аграфена, хотела ты рассказать мне про Аксинью Алферову?».
«– Да что про нее рассказывать? Жила себе, жила, а там и удавилась, и черт с ней, туда, к нему, ей и дорога».
«– Вот как! Да разве она виновата, что сошла с ума и на себя руки наложила?».
«– Эх, матушка, стало быть, вы ничего не знаете, коль так говорите. Да нешто она с того удавилась, что сума сошла?».
«– А то отчего же?»
«– Рассказывать – дело-то ночное, должно, скоро двенадцатый час пойдет – не совсем годится, ну, да уж если вам хочется, пожалуй, и расскажу, только вы не сробейте потом ко двору идти. Годов десять тому назад, стояла вот тут, налево от нашей хаты, избенка и жили в ней Алферовы, старик, Тимофей Федорович, по прозванью Ткач, старуха Ткача и две дочери, младшая Марья, а старшая – самая Аксинья-то и была. Жили они бедно, пребедно, не только что лошаденки, или коровенки, овченки у них не было, и жили они тем, что дочери на поденщину, на барский двор ходили, а старик с сумочкой бродил; Вот, раз как-то, зимою это было, пошел он побираться на Вишневец, побрел назад, поскользнулся на льду, упал и так разбился, что до самых, до вечерен пролежал на речке, пока чей-то мужик его не подобрал и до двора не доставил. Всю эту ночь он промаялся, а к утру стал кончаться. Аксинья около него стоит да и говорит: «тятечка, что же ты молитву-то не всю рассказал» – это, значит, не все колдовство свое он ей открыл – одно слово сказал, а двоих нет. Он приподнялся, хотел что-то говорить, да не смог, захрипел, повалился опять на лавку, стал метаться туда и сюда, а все душа с телом расстаться не может. Уж догадался кто-то, доску из потолка вынули, ну, тут он скоро и кончился. Вот, тут и пошли дела. Похоронили отца, а Аксютка-то, чисто, сама не своя сделалась. Все говорили, что она в уме помешалась, а мы-то знаем, что ее тоска забирает, что не все он, колдунишша-то, ей отдал. Вот, раз ухватила Аксинья отца-покойника сумку и ушла со двора. Мы думали, побираться пошла. День прошел, два, три – ее все нет. На четвертый день уже мы спать полегли, слышу я, стучится кто-то в окно, встала, глянула, – а ночь месячная была, видная, – да так и обмерла со страху: стоит у окна Аксинья, вся, как есть, мокрая, и уж чего-чего нет у ей в подол: и раки, и лягушки, и трава какая-то водяная, и уж какой-какой только нечисти не напуталось на нее».
«– Ну, так что же тут страшного-то?»
«– Э-эх, – видно что никаких делов этих вы не знаете – да, ведь, это она к «нему» в пролубку лазила и не утопла, ведь, проклятая: вишь, заскучала, что от отца всего не узнала, так вот сама к ему под лед и лазила. Разбудила я помаленьку мужика своего, рассказала ему, в чем дело, – он палку взял, а я – иконочку, родительское благословение, и пошли мы с ним вон из хаты, поглядеть, что будет. Только мы к углу подходим, женщина, вся в белом, метнулась было к нам, да, верно, благословение то мое помешало – назад, да и пропала за углом. Только, эта, пропала, откуда ни возьмись Аксинья вывернулась, зубищами ляскает, глянула на нас и говорит: Графенушка, пусти меня заночевать, я дюже замерзла. А я говорю: зачем ты ко мне пойдешь? ведь твоя хата, вон, рядом. – А она, как захохочет, да так пустилась бежать вниз, туда, к речке, да причитать: «Марья, Марья»! – Это она этого то, дружка то своего звала».
«– Какого дружка?»
«– Да, этого, речного то – и какие вы непонятные, – ну, ведь, это он женщиной то белой обернулся, да за углом ее поджидал… Она, Аксюха то, это, к речке возвратилась, а нас с мужиком такая робость взяла, что через большую силу двери в хату свою нашли: на крюк затворились, веревкой двери завязали, самим сна нету, а под окнами, до самого до рассвета, и стук, и кошки мяукают, и собаки воют, и чего, чего только не было! Ну, ладно, скучала она, скучала и ни днем, ни ночью покоя никому от нее не было по деревне: то куры ночью кричать начнут, то собаки завоют, а это все она с приятелями своими разделывала дела. Вот, раз как-то, на самое на Благовещенье это было, иду я к обедне и прохожу мимо Ткачева двора – стоит в сенцах, на самом пороге, Аксинья, в новом сарафане синем, рубаха белая, миткалевая, и новым платком ситцевым накрылась. А допрежь того она всегда, бывало, ходит, как помело, черная. Я еще и подивилась и спрашиваю ее: куда это ты так собралась, али к обедне поедешь? Пришла я от обедни, только обедать сбиралась, бежит Алферова Марьи и кричит: «караул, караул, беда у нас, Аксинья удавилась!» – Сбежался народушко, глядим, а она в чулане, на перемете висит и уже закоченела вся. И не иначе, как помогали ей «те-то»: до перемета боле трех аршин будет, а она прямо с полу веревку через его перекинула и повесилась: не иначе, значит, как «те-то», прости Ты меня Господи, ее подтягивали. Пришел староста, сотский, отец Миколай, присоветовали ее поскорее из петли вынуть и на улицу вынести: потому, говорит, она еще отдышет. Сперва ее за их, за Алферовым двором, на лавке положили, а потом кто-то придумал в земле, на бугорочке, яму вырыть и туда ее стоймя зарыть, только голову одну оставить, потому так, сказывают, в сырой земле она скорее отживет. К яме этой староста приставил караул, пока становой приедет. Приехал становой, кончилось расследование и Аксютку похоронили».
«– Ну, и что же, ничего потом не представлялось на том месте, где она была зарыта?»
«– Нет, Бог дал, ничего не было, только на двадцатый день да еще, как шесть недель ей вышло, все кто-то по ночам, под окнами голосил, уж так голосил, аж живот со страсти замирал».
Соответственно народной этиологии душевных заболеваний самыми первыми средствами при лечении помешанных являются средства знахарские и религиозные. В этой области деревенские деды и бабки едва ли имеют себе соперников и утвердительно можно сказать, что почти каждый душевно-больной в деревне, прежде чем попадет в руки врача, предварительно пройдет через несколько рук деревенских знахарей-психиатров. Весь вопрос здесь заключается в том, чтобы найти настолько сильного и искусного деда, который был бы в состоянии осилить порчу, предварительно узнав настоящего виновника ее, и мог совладать с сидящем в больном бесом. Многие из этого вида знахарей пользуются необыкновенно большой известностью и влияние многих из них простирается на гораздо более обширные районы, чем простых знахарей-лекарей. При этом очень большой интерес имеет следующее обстоятельство. Применяя те или другие средства, эти знахари обыкновенно предупреждают, что если больному, в известный промежуток времени, не сделается лучше, значит, вылечить его невозможно. Действуя средствами, лечебное значение которых заключается, главным образом, в терапевтическом внушении, они, чисто опытным путем, выделяют целый ряд страданий, имеющих истерическую основу и доступных для внушения, от тех, которые носят органический характер и при которых внушение является уже бессильным. Вместе с тем, становится понятным и это упорное подчас искание «сильных» знахарей: значение личности, производящей внушение и действующей на волю и больное воображение пациента, при истерической подкладке его страдания, является одним из самых главных и важных моментов. Все эти знахарские способы внушения – заговоры, нашептывания, питье наговорной воды, земли с могил и т. п. суеверный средства, с которыми мы познакомились уже в достаточной степени, по частоте своего применения у душевно-больных в деревне, могут соперничать разве только с внушением и самовнушением религиозным, достигаемым употреблением различных религиозных средств. Применение этих последних и в особенности посещение монастырей с чтимыми и чудотворными иконами, отчитывание и чтение целительных и заклинательных молитв, совершается чуть ли еще не с большей настойчивостью, чем только что указанных и очень нередко, после тщетной надежды и бесплодных исканий, влечет за собой прекращение всякой дальнейшей заботы о больном [388].
388
Явление это имеет свои исторические основания. Практика жизни выработала обычай посылать душевно-больных для призрения в монастыри и Сенат, указами в 1725 и 1727 гг., оформил обязанность монастырей принимать душевно-больных «для исправления ума и для призрения их по долгу христианской любви». Такой порядок продолжал существовать почти до конца XVIII ст., когда начали открываться дома для умалишенных.