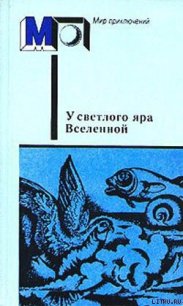Дом и корабль - Крон Александр Александрович (читать книги онлайн бесплатно полностью .txt) 📗
— Он звал вас, Виктор Иваныч, — сказал Митя одними губами и увидел, как исказилось мукой лицо Горбунова.
— Что он сказал? — хрипло спросил командир.
— Он сказал: на мое место — никого.
Оранжевое зарево померкло. Уголья еще светились.
— Расскажите.
И Митя рассказал, как умирал минер. Может быть, впервые в жизни он не боялся, что его перебьют, и не думал о том, чтоб понравиться. Он вообще не слышал себя, но с удивительной четкостью видел то, о чем говорил. Сначала это была операционная. Затем — он не заметил перехода — лодка. Он видел ее всю, от носа до кормы, шесть тускло освещенных отсеков, восемнадцать боевых постов, двести шестьдесят восемь поименованных в описании приборов и механизмов, втиснутых в тесную оболочку из стали. Теперь он знал ее наизусть и ощущал как собственное тело. Мысль о том, что надо расстаться хоть с одним из гуронов, вызывала в нем чувство, похожее на физическую боль, и все же он выразил мнение, что если обязанности минера будут временно разделены между ним и военфельдшером Марченко, если гидроакустику Олешкевичу поручить по совместительству ремонт радиоаппаратуры, если Савин возглавит группу электриков, а Туляков возьмет под свое крыло трюмных, если провести еще целый ряд хитроумных совмещений и перестановок, то можно будет, оставив на лодке двенадцать человек личного состава, закончить ремонт, а когда тронется Нева — отойти от стенки и провести пробное погружение.
Когда он замолчал, уголья совсем почернели. Горбунов взял кочергу и сунул ее в камин. Полетели искры.
— Так, — сказал командир. — Вот теперь нам известно мнение штурмана. Механик?
— Я согласен, — сказал Ждановский. — Кроме некоторых мелочей.
— О мелочах договоримся завтра, — сказал Горбунов, зевая. — Спасибо вам, братцы. Спокойной ночи.
Часть третья
Глава девятнадцатая
Капля талой воды скользнула за воротник и растеклась между лопатками.
Туровцев поежился и, весело жмурясь, посмотрел вверх. Небо сочилось голубизной, над самой головой нависала большая сосулька — не грязный клок декабрьского льда, а отмытая таянием, радостно слезящаяся, пронизанная лучами мартовского солнца и сияющая, как горный хрусталь. Радужный пот струился по сосульке, и уже набегала новая капля.
Митя засмеялся и подставил щеку. Не рассчитал — капля упала на отворот шинели, скатилась по жесткому ворсу и разбилась о пуговицу.
Он оглянулся и увидел Петровича. Старый матрос стоял, выставив вперед серебряную бороду, и тоже смотрел на сосульку. На синеватых губах застыла улыбка. Встретившись с Митей глазами, он выпрямился и громко сказал:
— Припотёеват.
Митя не понял.
— Припотёеват, — повторил матрос еще громче, упирая на «ё».
«Припотевает», — сообразил Митя и радостно закивал.
Выбежал во двор Шурик Камалетдинов. Размахнулся, чтоб запустить в сосульку комком мерзлой глины, и, прежде чем его удержали, остановился…
Третья капля скользнула в черную дырочку, пробитую в истоптанной, почерневшей от сажи снежной корке.
Митя прислушался и потянул носом. Двор дома на Набережной был полон звуками и запахами.
Время близилось к обеду. Митя проспал на законном основании до одиннадцати часов — это была премия за отличный ремонт навигационных приборов. Как ни придирался Горбунов, испытания прошли безупречно. Последнее время все Митины чувства спали, он оглох ко всему, что не касалось ремонта.
Теперь слух обострился, а нюх стал собачий.
Потрескивала железная кровля, звенели падающие из проржавевших желобов капли, чирикал одинокий воробей, по исцарапанному осколками карнизу к нему подкрадывалась неизвестно откуда взявшаяся кошка. Прыгнула, сорвалась, что с кошками почти не бывает, и дико зашипела, сверкнув на Митю бешеными глазами. Взгляд ее говорил: эх, была бы я не кошка, а тигр, я бы знала, что с тобой делать, голубчик…
Донимали запахи. Пока держались морозы, в городе ничем не пахло, разве что порохом. Это был сильный, но нестойкий запах, он быстро рассеивался. Теперь в воздухе носились слабые, но волнующие запахи гари и гниения, к ним примешивался еще один, совсем таинственный — так пахнут жабры у тронувшейся копченой воблы, — и хотя известно, что никакой воблы нет на сто верст в округе, а запах исходит от сложенных во дворе ржавых железных пластин, покрытых минеральной смазкой, Митя проглатывает слюну, и челюсти сводит короткая судорога.
Есть хочется всегда, даже во сне.
Во флигеле скрипнула дверная пружина, кто-то пробует открыть дверь изнутри, не осилил — сейчас наляжет плечом. Это могла быть Тамара, и Митя бежал. Когда дверь хлопнула, он был уже под аркой.
Со времени разрыва Митя видел Тамару раз пять или шесть. Столкнувшись, они вежливо здоровались, но в разговор не вступали. Разговаривать было не о чем — отношения Тамары с Селяниным уже давно не составляли ни для кого секрета. Весь дом осуждал Тамару — не за то, что она бросила Николая Эрастовича и сошлась с другим человеком, а потому что, сойдясь с Селяниным, она разительно переменилась. Она не ссорилась с соседями и не уклонялась от дежурств, но у нее был такой отчужденный и вызывающий вид, который лучше слов говорил окружающим: да, я живу так, как мне нравится, и мне в высшей степени безразлично, что вы по этому поводу думаете. Она совсем отвадила от себя Катю и Юлию Антоновну и ни с кем, кроме Асият и Козюриных, не якшалась. Несомненно, она голодала меньше других. Селянин приезжал часто, не таясь, иногда он привозил с собой гостей. В притихшем флигеле, где никто без нужды не двигается и все прислушиваются к каждому шороху, звук откупориваемой бутылки кажется выстрелом. Тамара этого не понимала, вернее, не хотела понимать…
О Тамаре Митя старался думать как можно проще и грубее. Красивая баба. Познакомились на вечеринке, спутались. Ни о какой любви и речи не было. Надоело голодать, подвернулся пожилой влиятельный дядька — она и переметнулась. Хвалить тут не за что, но по человечеству можно понять, рассказывают случаи похуже. Разошлись мы как-то не очень красиво, но по существу ни у меня к ней, ни тем более у нее ко мне не может быть никаких претензий. Как говорится — инцидент исперчен…
Все это было так. И в то же время совсем не так. Временами наступало просветление, и тогда Митя догадывался, что пытаться объяснить Тамару столь упрощенным способом — это то же самое, что вести подводную лодку, пользуясь школьной географической картой. Недоставало какой-то последней ясности, поэтому Митины настроения были подвержены заметным колебаниям — от приступов ненависти, когда холодеет в позвоночнике, до тайной нежности. Митя много раз пытался привести в систему свои мысли и всякий раз убеждался в том, как капризна логическая машина: еле заметное смещение в исходных данных, и вся длинная цепочка рассуждений выстраивается уже по-иному, все факты и фактики предстают в новом освещении, и как не прийти в отчаяние оттого, что любой малозначительный поступок, оказывается, может быть объяснен по меньшей мере двояко: подлостью и гордостью, равнодушием и страстью, корыстью и самоотверженностью. Сколько ни раскладывай этот пасьянс, он никогда не выходит без того, чтоб не вкрался какой-то допуск, или, попросту говоря, без того, чтоб где-нибудь не передернуть.
На Набережной снег был чище и искрился на солнце. Митя даже зажмурился.
…«Верхнюю вахту несет Соловцов. В двенадцать его сменит Савин. Суточное расписание стало похоже на короткое одеяло: натянешь на нос — ноги торчат. Однако служба идет, и график ремонтных работ — тьфу, тьфу, тьфу — выполняется.
…На пустых баллонах сидят Зайцев и Козюрин. Греются на солнышке и дымят махрой. Павел Анкудинович — инженер, объехавший полсвета, Серафим Васильевич — мастер и в жизни не выезжал за Нарвскую заставу. У Кудиныча лицо суровое, в крупных морщинах, у дяди Симы — бледное опухшее личико и нос картошкой, но корень у них один, оба они принадлежат к тому удивительному племени, которое зовется питерский пролетариат. Замечательный народ, он умеет все — делать революцию, строить корабли, тракторы и турбины. Не знаю, что бы мы делали без этих двоих. Конечно, их приходится подкармливать, одного за счет кают-компании, другого из матросского котла. Они и понятия не имеют, сколько тревог это доставляет помощнику — ведь достаточно одному краснофлотцу заявить, что ему недодают положенных калорий, и начнется столпотворение. Комдив и военком, конечно, догадываются, но, поскольку заявлении нет, молчат…»