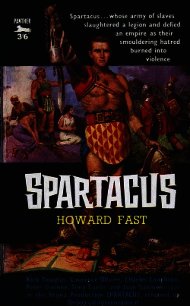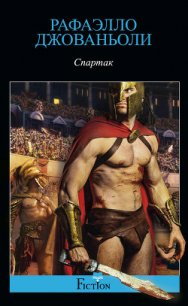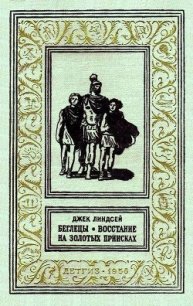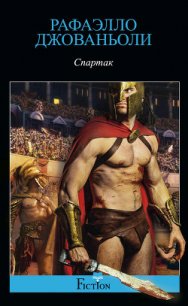Библиотека мировой литературы для детей, том 36 - Джованьоли Рафаэлло (е книги txt) 📗
Лицо Валерии горело от возбуждения, она говорила с возрастающим жаром и наконец, умолкнув на минуту, повернулась к Гортензию, изумленно смотревшему на нее широко раскрытыми, неподвижными глазами. Затем она продолжала:
— Да, конечно, перед лицом таких законов я нарушила свой долг… Я знаю… признаю это… Но я не собираюсь ни защищаться, ни просить прощения: я нарушила свой долг тем, что не имела мужества уйти из дома Суллы со Спартаком. Я не могу считать себя преступной за то, что полюбила этого человека, я горжусь моей любовью. У него благородное и великодушное сердце и ум, достойный великих дел; если бы он победил во Фракии римские легионы, им восхищались бы больше, чем Суллой и Марием, боялись бы больше Ганнибала и Митридата!.. Но он был побежден, и вы сделали из него гладиатора, потому что вы в течение многих веков привыкли обращаться с побежденными народами по правилу «горе побежденным»! Вы считаете, что боги создали людей для вашей забавы. И только потому, что вы сделали из Спартака гладиатора, потому, что вы так назвали его, вы думаете, что изменили его природу. Напрасно вы полагаете, что достаточно вашего повеления, чтобы вселить отвагу и смелость в душу труса и разум — в голову безумца, а человека с высокой душой и умом обратить в безмозглого барана!..
— Итак, ты восстаешь против законов нашей родины, против наших обычаев, против всякой благопристойности и приличия? — изумленно и грустно спросил великий оратор.
— Да, да, да… Восстаю, восстаю… отказываюсь от римского гражданства, от своего имени, от своего рода… Я ничего ни от кого не требую… Уеду жить на уединенную виллу, в какую-нибудь далекую провинцию, или же во Фракию, в Родопские горы, со Спартаком, и вы, все мои родственники, больше не услышите обо мне… Только бы быть свободной, быть самой собою, свободно распоряжаться своим сердцем, своими привязанностями.
Обессилев от волнения, от наплыва бурных чувств, изливавшихся в гневных словах, Валерия побледнела и упала на ложе в полном изнеможении.
Гортензий долго смотрел с состраданием на сестру, а затем ласково сказал ей:
— Я вижу, дорогая Валерия, что ты сейчас себя плохо чувствуешь.
— Я? — воскликнула матрона, быстро поднявшись. — Нет, нет, я чувствую себя совсем хорошо, я…
— Нет, Валерия, поверь мне, ты нездорова, право, нездорова… Ты так взволнована, возбуждена. Это лишает тебя трезвой ясности ума, необходимой при разговоре о таких серьезных вещах.
— Но я…
— Отложим нашу беседу до завтра, до послезавтра, до более подходящего момента.
— Но предупреждаю тебя, я все решила бесповоротно.
— Хорошо, хорошо… Мы еще об этом поговорим… когда увидимся… А пока я молю богов, чтобы они не лишили тебя своего покровительства, и прощаюсь с тобой. Привет тебе, Валерия, привет!
— Привет тебе, Гортензий.
Оратор вышел из конклава. Валерия осталась одна, погруженная в глубокое, печальное раздумье. От этих грустных мыслей ее отвлек Спартак. Войдя в конклав, он бросился к ногам Валерии и в бессвязных словах благодарил ее за любовь к нему и за выраженные ею чувства.
Вдруг он вздрогнул, вырвался из объятий Валерии и, сразу побледнев, насторожился, как будто сосредоточенно, всеми силами души прислушивался к чему-то.
— Что с тобой? — взволнованно спросила Валерия.
— Молчи, молчи, — прошептал Спартак.
В эту минуту в глубокой тишине оба ясно услышали хор чистых и звучных молодых голосов, хотя до конклава Валерии долетало только слабое, отдаленное его эхо. Хор пел где-то далеко, на одной из четырех улиц, которые вели к дому Суллы, стоявшему очень уединенно, как и все патрицианские дома; пели песню, сложенную на полуварварском языке — смеси греческого с фракийским:
Широко раскрыв глаза, Спартак замер и весь обратился в слух, как будто вся его жизнь зависела от этой песни. Валерия могла уловить и понять только немногие греческие слова. Она молчала, и на ее бледном, как алебастр, лице отражалось страдание, написанное на лице рудиария, хотя она и не понимала причину его душевной муки.
Оба не произнесли ни слова; когда же стихло пение гладиаторов, Спартак схватил руки Валерии и, целуя их с лихорадочной горячностью, произнес прерывающимся от слез голосом:
— Не могу… не могу… Валерия… моя Валерия… прости меня… Я не могу всецело принадлежать тебе… потому что сам не принадлежу себе…

Валерия вскочила, приняв эти бессвязные слова за намек на какую-то прежнюю любовь рудиария. В волнении она воскликнула:
— Спартак!.. Что ты говоришь!.. Что ты сказал? Какая женщина может отнять у меня твое сердце?
— Не женщина… нет, — ответил гладиатор, печально качая головой. — Не женщина запрещает мне быть счастливым… самым счастливым из людей… Нет! Это… это… Нет, не могу сказать… не могу говорить… Я связан священной и нерушимой клятвой… Я больше не принадлежу себе… И достаточно этого… потому что, повторяю тебе, я не могу, не должен говорить… Знай только одно, — добавил он дрожащим голосом: — вдали от тебя, лишенный твоих божественных взглядов… я буду несчастлив… очень несчастлив… — и голосом, в котором звучало глубокое горе, он сказал: — Самый несчастный из всех людей.
— Что с тобой? Ты сошел с ума? — испуганно произнесла Валерия и, схватив своими маленькими руками голову Спартака, сдвинув брови, пристально посмотрела черными сверкающими глазами в его глаза, как бы желая понять, не лишился ли он действительно рассудка. — Ты сходишь с ума?.. Что ты говоришь? Что ты мне говоришь? Кто запрещает тебе принадлежать мне, одной мне?.. Говори же! Рассей мои сомнения, избавь меня от мук, скажи мне — кто?.. Кто тебе запрещает?..
— Выслушай, выслушай меня, моя божественная, обожаемая Валерия, — сказал дрожащим голосом Спартак; на его искаженном лице можно было прочесть жестокую борьбу противоречивых чувств, бушевавших в его груди. — Выслушай меня… Я не смею говорить… не в моей власти сказать тебе, что отдаляет меня от тебя… знай только, что никакая другая женщина не может… не могла бы заставить меня забыть твои чары. Ты должна это понять. Ты для меня выше, чем богиня. Ты должна знать, что не может в моей душе зародиться чувство к какой-нибудь другой женщине… будь в этом уверена. Клянусь тебе своей жизнью, своей честью, клянусь твоей честью и жизнью, я говорю искренне, честно и даю клятву: вблизи или вдали я всегда буду твоим, только твоим, твой образ, память о тебе всегда будет в моем сердце. Тебе одной я буду поклоняться и только тебя боготворить…
— Но что же с тобой? Если ты так любишь меня, почему говоришь мне о твоих страданиях? — спрашивала бедная женщина, едва сдерживая рыдания. — Почему ты не можешь доверить мне свою тайну? Разве ты сомневаешься в моей любви, в моей преданности тебе? Разве я мало дала тебе доказательств? Хочешь еще других?.. Говори… говори… приказывай… Чего ты хочешь?..