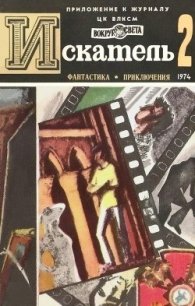Петля и камень в зеленой траве. Евангелие от палача - Вайнер Аркадий Александрович
Почти до двери я дошел, пересекая необозримый кабинет, когда услышал за спиной негромкое:
– Прочитал я протокол допроса… этого… как его… Когана… что ль?
Я замер. И сердце в груди оборвалось и повисло в пустоте грудной клетки. Медленно-медленно обернулся, и показался мне Абакумов бесконечно далеким, будто смотрел я на него в перевернутый бинокль.
– …Товар-малина, говна в нем половина… Этот следопыт наш… Рюмин… ба-альшой выдумщик… И усердие в нем – не по уму… – И, упреждая меня, сказал быстро: – Ты-то, надеюсь, не имеешь к этому делу отношения?
– Самое что ни на есть отдаленное, – севшим от страха голосом пробормотал я.
– Вот и не приближайся к нему на версту. Я сейчас домой поеду – пару часиков соснуть, потом вернусь и сам допрошу Когана. И Рюмина заодно. И если мне пархатый не подтвердит все доподлинно – я Рюмину язык через жопу вырву. – И, сжав кулак, показал, как будет выдирать Миньке язык. – Иди, я тебя вызову.
Не помню, как промчался через приемную, длинный коридор, застланный алой дорожкой. Лестница, марш вверх, площадка, еще вверх, еще, некогда ждать лифта, снова длинный коридор, оглушенный и слепой бег, немой распах двери рюминского кабинета – и валяющийся на полу без сознания Коган, и Минька над ним – бледный и растерянный.
– Что?! – крикнул-выдохнул я.
– Отказывается… – развел руками Рюмин. – Не подписывает ничего, жидяра гнусная…
Он взял со стола графин и стал лить воду на голову Когана, и булькающая струя, смывая с лица кровяные затеки, разливалась на яично-желтом паркете бурой грязной жижей.
Коган замычал, застонал протяжно, выныривая медленно из спасительной пустоты беспамятства, разлепил спекшиеся губы, распухшим багровым языком попытался поймать текущие по черному изуродованному лицу капли.
Я с удивлением заметил у него во рту обе вставные челюсти, каким-то чудом уцелевшие за время столь долгого мордобития.
– Миня, он должен подписать протокол, – сказал я, хотя надежды почти не оставалось. – Через пару часов тебя вызовет Абакумов, и, если Коган не подтвердит протокола, нам всем конец…
– Как же так? – выкатил Минька свои белые бельма на поросячьем рыле. – Как это? Ты же сам говорил…
– Говорил! Говорил! Кто тебя, идиотину, гнал с протоколом к министру? Да поздно сейчас рассуждать! Надо, чтобы он подписал…
Коган очнулся совсем, приподнял голову, мутно посмотрел на нас и хрипло сказал:
– Господи… Господи… За что Ты меня… так…
Отворилась дверь, и в кабинет заглянул Трефняк. Я махнул ему рукой: «Заходи!» – а сам присел на корточки рядом с Коганом и спросил:
– Моисей Борисович, вы меня хорошо слышите? Понимаете, что я вам говорю?
Коган прикрыл веки.
– За эти несколько дней вы уже многое поняли… – Я старался говорить спокойно и убедительно. – И вчера приняли единственно правильное решение чистосердечно признаться…
Коган замотал головой.
– Вы меня… замучили… – просипел он.
– Вы ошибаетесь, Моисей Борисович! Вы еще даже и не пригубили от чаши страданий! Ваши испытания – это лишь обработка. Ну, подготовка к разговору…
Минька крикнул:
– Сейчас, пархатая рожа, сделаем тебе клизму из каустика с толченым стеклом!
Я показал Миньке кулак, а Когану сообщил:
– Прошу вас, Моисей Борисович, не вынуждайте меня на крайние меры. У нас нет времени, и я поставлен перед необходимостью заставить вас говорить правду, уверяю вас, что вы даже не представляете, какие ждут вас муки. Одумайтесь, пока не поздно…
Он схватился за горло и засипел снова:
– Горит… горит все… Боже мой милостивый… как горит… все внутри… Снегу… дайте глоток снегу… горит… снегу… тогда подпишу…
– Ах ты, свинья лживая! Собака грязная! – фальцетом завопил Минька. – Думаешь снова провести нас! Горит у него! Да ты хоть сгори тут!..
Но я видел, что выхода уже все равно нет, и приказал Трефняку:
– Неси снега!
– Откуда? – удивился Трефняк.
– От верблюда! Дурень, беги на улицу, зима небось!..
Трефняк беспомощно огляделся в поисках посуды, не нашел ничего подходящего, схватил стоящую в углу фаянсовую белую плевательницу и сказал:
– Нехай! С харкотиной тож зъист!
И ушел. Окно туманилось серой слизью рассвета.
Минька, снедаемый яростью и страхом, потерянно слонялся по кабинету, безнадежно приговаривал:
– Смотри, гадина, попробуй только не подписать – вытрясу поганый твой кошерный ливер…
Это он себя так взбадривал. Потом подошел к внушительному полированному ящику радиоприемника «Мир», щелкнул выключателем, и глазок индикатора не успел налиться зеленью, как рванулся в комнату, будто из прорвы, бас Рейзена:
– Выключи! – крикнул я Миньке, и Мефистофель пропал с затухающим воплем – «Сатанатам… сатанатам…»
– Моисей Борисович, давайте я вам помогу сесть за стол, сейчас принесут снегу, а вы пока подписывайте протокол…
Коган снова приподнял голову, оглядел нас с Минькой прояснившимся глазом – одним левым, – потому что правый был закрыт чугунным кровоподтеком, и тихо, очень удивленно сказал:
– Какие… вы… молодые еще… парни…
Втянул в себя воздух со свистом, закрыл глаз и забормотал еле слышно, будто себе что-то объяснял, только что понятое растолковывал:
– Молодые клетки… новообразования… у старых клеток нет этой бессмысленной… энергии уничтожения… метастазы… сама опухоль – в мозгу… вы будете расти… пожирать организм… людей, государство… пока не убьете его… тогда исчезнете сами…
Пришел Трефняк с полной плевательницей снега – грязного, с песком.
– С тротуару… от сугроба набрал, – деловито пояснил он.
И Коган долго лизал эту мусорную жижу, но глотать уже не мог, и она стекала у него из угла рта. Потом он выронил из рук плевательницу, она раскололась от удара, и снежная кашица смешалась на полу с черной лужей от воды, вылитой Минькой из графина.
А старик полежал несколько мгновений недвижимо, и мы в растерянности замерли, не зная, что делать, пока он опять не приподнял голову и выплюнул на пол зубные протезы.
– Не нужны больше, – шепнул он. – Умираю…
Голова его отчетливо стукнула о паркет, и тишину растоптал Минька, бросившийся к Когану с пронзительным криком, визгливым, почти рыдающим:
– Подыхай, сволочь, подыхай, гадина! Погань проклятая!..
И бил его короткими толстыми ногами по ребрам, в живот, под почки.
Я оцепенело сидел за столом, и не было сил остановить Рюмина, хотя я видел, что Моисей Коган уже мертв.
В голове плавал бурый дым, и весь я был набит ватой, только одна ясная мысль оставалась в сознании: скорее всего, через несколько часов бойцы из Особой инспекции будут разбираться со мной точно так же, как Минька с Коганом.
Конвойные уволокли труп. Рассвело. Но забыли выключить свет. Валялась на полу расколотая плевательница. Темнела грязная лужа. Минуты – как столетия, и часы – как один миг. И сердцем чуял во внутреннем кармане тяжесть абакумовского подарка – надежды на быстрый выход.
И звонок по телефону:
– Министр вызывает к себе Рюмина с арестованным Коганом…
Дождь с крупой. Снег пополам с грязью. Пить хочется. Присыпанный серой снежной кашицей «мерседес». Сгреб ком и стал сосать. Не пройдет жажда. Солоно. Будто от крови во рту. Спать хочется, но все равно не засну. Одному быть страшно. Надо все время выпивать – будет легче.
Какой дурак сказал, что не надо быть курицей, чтобы представить ее чувства в кипящем бульоне? Не верьте, не верьте этой чепухе. Великое знание бульонной варки ведомо только курице.
Негде спрятаться. Некуда податься.
Как набухла в груди серозная фасолька, как разрослась – к самому горлу подкатила. Качается под ногами земля, наш маленький Орбис террарум, веселенький голубой наш террариум.