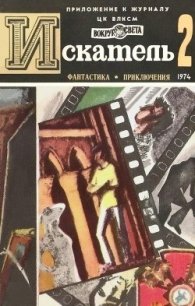Петля и камень в зеленой траве. Евангелие от палача - Вайнер Аркадий Александрович
Но министр встряхнулся, открыл набрякшие глаза и налил в свою рюмку виски, подумал, плеснул в чей-то недопитый бокал – взглядом показал на него:
– Давай выпьем, старатель… Хитер ты, однако… Своей смертью не помрешь…
Проглотил я палящий ком кукурузного пойла, ви́ски в виски́ ударило. Абакумов снял ноги со столика, тяжело поднялся и, чуть пошатываясь, подошел к сейфу, долго бренчал ключами, отпер полуметровой толщины дверь, а там был еще один запертый ящик с наборным замком. Шеф нажал несколько кнопочек, перевел цифры на счетчике, щелкнув, отворилась дверца; в это стальное дупло и положил он мои листочки.
Господи, какие там лежали тайны! Можно поклясться, что в мире нет хранилища больших богатств, чем сейф Виктора Семеныча Абакумова. Ибо любое богатство – это власть, и не существует сильнее власти, чем всемогущество хранителя чужих тайн. И растет эта власть, пухнет и наливается мощью пропорционально количеству этих тайн.
И наша замечательная Контора – всесоюзный, всемирный банк человеческих секретов, которые были отняты у их хозяев расстрелами, битьем, обысками, агентурными донесениями, шпионскими сообщениями и оперативными комбинациями, – Контора обрела неслыханную власть над людишками, взяв к себе на хранение подноготную целых народов.
И нечто самое интересное, подспудное, сокрытое, незримое, затаенное – из жизни хранителей чужих тайн, властелинов чужих замыслов и поступков – лежало в сейфе главного хранителя чужих судеб генерал-полковника Абакумова.
Поэтому, заглядывая исподтишка в заветный ларец министра, я слушал оглушительный стук своего сердца и напряженно соображал – удастся ли мне пронырнуть сквозь разрастающуюся лавину борьбы за чужие тайны, или она подхватит меня и поволочет вместе со всеми – «на общих».
Ведь каприз нашей жизни состоял в том, что свою охоту за тайнами я совершал самовольно, негласно, секретно, как говорится, строго конфиденциально, и все мое хитромудрие было сейчас направлено на то, чтобы не сдать эту тайну на хранение Абакумову.
Одна из моих тайн уже лежала у него в сейфе. По-моему, достаточно.
И дело не в том, что я не верил в добрые чувства Абакумова ко мне. Просто хранение таких важных тайн – невероятно тяжелая работа. И опасная.
Никогда нельзя угадать, в какой момент он оступится, чудовищный груз рухнет на него, и хранилище перейдет в чужие руки.
Чьи?..
А вот этого, кроме бессмертного Пахана, заранее знать не мог никто, потому что никогда явные фавориты не входили хозяевами в зал заседаний правления страхового общества России…
Абакумов с лязгом захлопнул дверцу внутреннего сейфа, взял из стального шкафа несколько листков и, помахивая ими в воздухе, сообщил:
– Товарищ Сталин мне верит! И любит меня! Он знает, что только я ему верен до гробовой доски. Я один!
Он уселся за стол, поманил меня пальцем и сказал:
– Вот ты, поросенок, видел когда-нибудь личную надпись товарища Сталина? Не видел? На, посмотри, внукам расскажешь…
Он протянул мне бумаги – это было «Положение о Главном управлении контрразведки Красной Армии – СМЕРШ».
– Смотри, читай, что обо мне написал Иосиф Виссарионович… – Он тыкал пальцем с белым широким ногтем в машинопись, где в пункте втором было напечатано: «Начальник ГУКР-СМЕРШ Красной Армии подчиняется наркому обороны СССР». И жирным синим карандашом вписано над печатной строкой: «…и только ему».
– Понял? Я подчиняюсь Ему! И только Ему!..
Он бережно разгладил на столе скрижаль с синим карандашным заветом и приказал:
– Явишься ко мне послезавтра в три пополуночи!
– Слушаюсь! – вытянулся я.
– Пашку Мешика вызову из Киева. Устрою вам очную ставочку. Если выйдет так, как ты тут доказывал, шей полковничью папаху… А не выйдет – тогда…
Он не сказал, что тогда будет. И мне ни к чему было спрашивать. Догадывался…
Я и получил полковничью папаху – серую, каракулевую. Только не послезавтра, а через два года. Из рук совсем другого хозяина страхового общества России.
Выслужили мы все-таки с Минькой татарский подарок – ременный кнут и баранью шапку.
Глава 16
«Орбис террарум»
Обманули, как ребенка.
Снился долгий, красочный и страшный сон, очень долгий – почти целая жизнь, потом очнулся – и нет в руках кнута, и не покрытая папахой голова зябнет от тоскливого ужаса.
Лед под ложечкой и сверлящее кипение за грудиной. И Мангуст напротив, вечный, неистребимый, неотвязный – жидовская зараза.
– Мы уже почти пять часов пируем, – сказал я. – Сыт. По горло.
– Неудивительно, – согласился Мангуст. – Яства для нашего пира собирали тридцать лет…
– А вы за один обед хотели бы выесть меня? Как рака из панциря…
– Нет… – покачал он головой.
– Чего же вам надо?
Мангуст взял с приставного столика бутылку минеральной воды, откупорил, налил, бросил в стакан какую-то белую шипучую таблетку, посмотрел на свет, сделал несколько неспешных глотков и тихо сообщил:
– Ваше публичное раскаяние.
Я махнул рукой:
– Во-первых, публичное раскаяние не бывает искренним. Настоящее раскаяние – штука интимная. А во-вторых – мне не в чем каяться. Я ни в чем не виновен. Лично я – не виновен…
И шкодница-память вдруг ехидно вытолкнула наверх непрошеное, давно забытое…
…высохшая от старости черная грузинская бабка ползет на коленях по Анагской улице. Толпа ротозеев с тбилисского Сабуртало глазеет в отдалении: качают головами, цокают языками, а женщины гортанно кричат и плачут. Несколько бледных милиционеров идут за старухой следом, упрашивают вернуться домой, но пальцем притронуться к ней боятся. А она их не слушает, ползет по улице, плавно поднимающейся к церкви Святого Пантелеймона, громко молит народ простить ее, а Христа Спасителя – помиловать. Простить и помиловать за злодеяния единственного ее сына, плоть от плоти – царствующего в Москве члена Политбюро батоно Лаврентия…
На церковной паперти начальник Тбилисского управления МГБ полковник Начкебия стал перед старухой на колени и умолял вернуться в дом – не позорить своего великого сына и не сиротить детей самого Начкебии за этот жуткий спектакль, который смотрел весь город…
Лишь после долгой покаянной молитвы удалось загнать бабку в дом, и с тех пор раскаяние Лаврентьевой мамы стало действительно интимным делом, поскольку больше ее никто и никогда не видел…
Мангуст отпил еще немного своей дезинфицированной минералочки, задумчиво переспросил:
– Не виноваты? Вы не виноваты?..
Покачал головой и эпически констатировал:
– Тогда вас будут судить без вашего раскаяния…
– Не дамся! – заверил я твердо. – Кишка у вас тонка! Я свою жизнь так просто не отдам.
Он усмехнулся и сказал:
– Давно замечено, что субъекты, подобные вам, ценят свою жизнь тем сильнее, чем больше убивают сами.
– А вы как думали? Наш замечательный пролетарский трибун Максим Горький недаром сказал: «Если я не за себя, то кто же за меня?»
– Позвольте вас разочаровать: незадолго до Горького – примерно два тысячелетия назад – это сказал наш великий законоучитель Гиллель: «Им эйн ани ли, ми ли?» И сказал он это совсем по другому поводу.
Не то чтобы я обиделся за пролетарского гуманиста-плагиатора, но уж как-то невыносимо противно стало мне зловещее еврейское всезнайство Мангуста, и сказал я ему:
– Мне на вашего Гиллеля плевать. И на Горького – тем более. Я сам по себе. Я – за себя!
Смотрел он на меня, падло, щурился, усмехался, головой покачивал. Потом заметил серьезно:
– Я это приветствую. Богиня Иштар заповедовала: каждый грешник пусть сам ответит за свои грехи.
Вот народец, едрена корень! Каждый – и фарисей, и книжник одновременно.
– Пожалуйста, я готов ответить на все обвинения и любые претензии, – сказал я. – Но не государствам, не общественным организациям, не синагогам и не самозваным представителям! Лично! Пусть пострадавший от меня предъявляет мне иск – лично! Тогда поговорим…