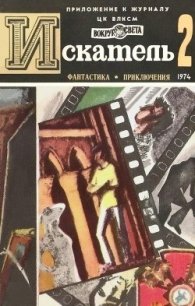Петля и камень в зеленой траве. Евангелие от палача - Вайнер Аркадий Александрович
– …И еще какие доказательства! – сказал Минька, и Коган повернулся к нему.
– Что же это за доказательства, позвольте полюбопытствовать? – спросил он, утратив интерес ко мне.
– Вот они, эти доказательства… – сказал я по-прежнему тихо, и Коган резко обернулся ко мне. А я сложил вместе ладони, растопырив пальцы, и этими вялыми разжатыми пальцами постучал Розенбаума по черепу, и в кабинете раздался сухой костяной треск. – Вот здесь полно доказательств вашей преступной деятельности…
Коган молчал мгновение, и тайный злой гонор пересилил в нем страх, высокомерие брызнуло из него, как сок из спелого арбуза.
– Вы… вы… вы стучите по голове врача… своими… своими руками… врача, который спас от страданий и смерти тысячи больных…
Минька глубоко заметил:
– Ха! Спас! Спасители хреновы! Чего жид не сделает, чтобы замаскировать преступные планы…
Коган рванулся в его сторону, выкрикнул хрипло:
– Какие планы? О чем вы говорите?.. Где же я нахожусь, боже мой?!
– Вы находитесь в Следственной части Министерства государственной безопасности СССР, – степенно сказал Минька, – которому стали известны ваши планы уничтожения руководящих советских кадров во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. И этот вот вонючий Разъебаум уже рассказал нам о совместных с вами делишках…
Коган горько покачал головой:
– Доктор Розенбаум – мой ученик. Ничего он не мог вам сказать обо мне плохого. Ученик не может оклеветать учителя, не может признать его злодеем…
– Ой ли? – подал голос я, и Коган снова развернулся, и с каждым таким поворотом он дотрачивал остатки уверенности.
– Неужели не может? – озабоченно интересовался я. – А вот эта газетка вам ничего не напоминает?
И протянул ему старую, уже изжелтевшую от времени «Правду», а Коган стремительно выкинул вперед руки, отталкивая от себя волглый газетный лист, будто я совал ему в белые профессорские ладошки зловонную жабу.
– Без очков, наверное, не рассмотрите? – спросил я предупредительно. – Давайте сам найду… Где это тут напечатано?.. Запамятовал что-то… Ага… Ага… Вот, вот – на второй страничке… «СМЕРТЬ ПОДЛОМУ УБИЙЦЕ!» – письмо в редакцию честных советских врачей, требующих беспощадного отношения к грязным отравителям Плетневу и Левину, замаскировавшихся под личиной врачей и убивших великого пролетарского трибуна Максима Горького… Не помните такого письма? А-а?..
Коган молчал, спрятав за спину руки. Минька от удовольствия тихо хихикал и кусал свои обломанные половинчатые ногти. Трефняк не вслушивался в мои слова, но по тону улавливал, что бить пока никого не надо, и сосредоточенно думал о чем-то – наверное, о плутующей плутоуке.
И Розенбаум поднял на Когана глаза, будто налитые йодом.
– Значит, забыли, – вздохнул я огорченно. – Ай-яй-яй! А письмо-то интересное! Как возмущены честные врачи подлым шпионом профессором Плетневым! Вот послушайте, как красиво сказано и очень убедительно: «…изверги и убийцы растоптали священное знамя науки, осквернили чудовищными преступлениями честь ученых…». И подписи – Мирон Вовси, Николай Зеленин, Егоров… так… так… так… вот еще один честный врач – Моисей Коган. Это ваш родственник? Или однофамилец? А может, перепутали в редакции – это не подпись вашего брата Бориса Когана?
– Это… я сам… это моя подпись… – выдавил из себя Коган.
– Не может быть! – закричал я испуганно. – Мне точно известно, что ученик не может признать учителя злодеем! Ведь профессор Плетнев – ваш учитель? Я ведь не ошибаюсь?..
Ох, долго молчал Коган, пока наконец смог разъять уста и шепотом сообщить:
– Н-нет… не ошибаетесь… Но нас собрал заместитель наркома НКВД Агранов… показал признание Плетнева…
– И вы поверили? – охнул я от неожиданности.
– Поверил…
– Понимаю вас, – сочувственно покачал головой я. – На вашем месте у меня бы тоже ни на миг не возникло сомнения, что великий гуманист – молодой парень шестидесяти восьми лет, здоровенный чахоточник, атлет без одного легкого и с сильным циррозом, алкоголик с двумя инфарктами – сам по себе умереть не мог ни за что! Только вредительская рука Плетнева смогла вырвать гения советской литературы из наших рядов. Даже я – совсем не врач – это отлично понимаю…
Минька радостно, сыто загоготал, хлопая себя ладонями по брюху, и Трефняк, сообразив, что я, видно, крепко пошутил, тоже заржал по-сержантски.
Куда же делась ваша еврейская надменность, дорогой гражданин Коган? Как быстро стыд и страх растворили вашу гордыню!
Залепетал растерянно:
– Агранов показывал документы… Плетнев на процессе признавался… Агранов ведь был замнаркома, член ЦК…
– Э-эх, не надейтесь на князи, на сыне человеческия – сказано в Псалтири. Агранов-то давно расстрелян…
– Но мы ведь не могли тогда знать, что все это подделки! – воскликнул с отчаянием Коган.
– Подделки? – удивился я. – У нас подделками не занимаются. Плетнев изобличен и расстрелян по заслугам. И Агранов расстрелян – по своим заслугам. И у вас нет выхода, кроме чистосердечного признания…
– Господи, что же происходит? – закричал Коган. – Чего вы хотите от меня?
В круглом канцелярском графине мерцал блик от электрической лампы, скрипели хромовые сапоги Трефняка, густо сопел Минька, всхлипывал Розенбаум.
Вода в графине стыла пузырем циклопической слезы.
Минька, дурак, не выдержал хода игры, не понял, осел, что Когана надо ломать не на испуг, а на унижение собственной грязью, и вылез с вопросом:
– Мы хотим, чтобы вы рассказали о том, как вам удалось умертвить кандидата в члены Политбюро, секретаря ЦК ВКП(б), первого секретаря Московского городского и Московского областного комитетов партии, заместителя наркома обороны СССР, начальника Главного политического управления Советской Армии, начальника Совинформбюро генерал-полковника Александра Сергеевича Щербакова…
Он это провозгласил торжественно, как дьякон литанию, но Трефняк, оторвавшись от размышлений про плутоуку, присвистнул удивленно и спросил:
– Усех сразу ухайдакал? От, жидюка злостный!..
Все сделали вид, будто не расслышали замечания Трефняка, и я наблюдал, как часто дышит Коган, набирает воздуха в грудь, мнет дрожь в скулах, чтобы достойно ответить нам звенящим от испуга и напряжения голосом:
– Товарищ Щербаков умер девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года от остановки сердца вследствие многодневного тяжелого запоя. Умертвить его я не мог по двум причинам. Во-первых, в течение всего запоя охрана не подпускала к Щербакову ни одного человека. Это легко проверить по журналу посетителей дачи Щербакова в Барвихе, куда записывались паспортные данные каждого, кого ввозили на территорию. А во-вторых, я не был лечащим врачом Щербакова и видел его живым всего один раз во время консилиума по поводу прогрессирующего у него склероза и ишемической болезни…
– А откуда вы знаете причину его смерти?
– Мне рассказал коллега, профессор Вовси… Он наблюдал Щербакова как главный терапевт Советской Армии…
– Вот и прекрасно, – заметил Минька. – Так и запишем: замысел умертвить Щербакова сильнодействующими лекарствами и назначением пагубного режима был подсказан Когану профессором Вовси…
– Вы с ума сошли! – взвизгнул Коган. – Я ничего подобного не говорил! И не скажу! Никогда!
Коган больше не крутил взад-вперед головой, а вскочил со стула и умоляюще протягивал ко мне руки, жарко бормотал:
– Ну вот вы, товарищ, у вас вид приличного, образованного человека, ну вы хотя бы постарайтесь понять, что все эти обвинения – чудовищная чепуха! Никто на всей земле не может в это поверить! Какие сильнодействующие лекарства? Какой пагубный режим? Щербаков выпивал ежедневно до трех литров водки и выкуривал несколько пачек папирос. Вы же его видели, наверное, он весил сто сорок килограммов и один съедал за обедом свиной окорок с гречневой кашей. Во время консилиума он сам мне сказал, что каждый день ему привозят с бадаевского завода дюжину бутылок нефильтрованного пива. Это же для почек – смерть!