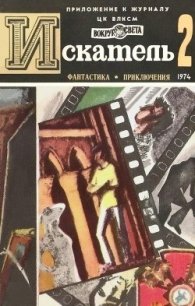Петля и камень в зеленой траве. Евангелие от палача - Вайнер Аркадий Александрович
И он изощрялся в грязной обидной ругани, по поводу которой Фира Лурье с ужасом сказала: «Уста нечисты…»
Через некоторое время Дуське надоедало его слушать, а может, до ее вялого мозга тяглового животного доходила наконец обидность шмаковской ругани, или она на своих незримых весах отмеривала порцию сброшенной им ненависти, но, во всяком случае, на каком-то особенно сложном загибе она без предупреждения ударяла его ладонью по морде так, что Шмаков неизменно падал с табуретки на пол.
Дрались они на кухне. Хотя правильнее было бы назвать это не дракой, а экзекуцией. Била она Шмакова жестоко, хотя в азарт не входила, и прекращала побои тотчас же, как только он оставлял надежду подняться с полу и дать ей сдачи. Потом вязала его бельевой веревкой и укладывала проспаться до утра, никогда не забывая приготовить ему на опохмелку четверочку водки или пару бутылок пива. Вот такая идиллия разворачивалась в столовой дедушки Левы, бывшего академика медицины.
А в кабинете дедушки Левы поселили инвалида с детства, двадцатилетнего кретина Сережу с его маманькой, счетоводом домоуправления и общественницей Анисьей Булдыгиной…
Непостижимые прихоти памяти, армянские загадки Мнемозины – тайны, не имеющие ответа!
Почему столь многого я не запомнил, столь многое позабыл, а ругань Шмакова и воспаленное серое лицо Аниски Булдыгиной, похожее на вчерашний зельц, помнятся так ясно, будто все мы расстались сегодня утром?
Может быть, потому, что они были последние нормальные пролы, типичные средние коммуноиды, с которыми мне довелось близко общаться? Я ведь после всей этой истории, слава богу, никогда уже не контактовал с простыми советскими людьми, разве что они сидели перед моим столом в качестве подследственных или агентов. Но в этом качестве люди ведут себя совсем по-другому, чем в коммунальной квартире.
А может, запомнил я их так ясно потому, что были они отвратительно кричащим людским фоном неповторимых событий в моей жизни – страшных и прекрасных?
Может быть. Во всяком случае, никогда больше я не жил в состоянии такого напряжения, страха, надежды, счастья и отчаяния.
Именно тогда я понял окончательно, что евреи – чертова родня, дьявольская поросль, нечистой силы однокровники.
Сглазили они меня. Навели порчу. Морок захлестнул меня, погрузил в чад, омрачение ума наступило. Ничего не лезло в мою ошалевшую башку, кроме Риммы.
Засыпал с ней или просыпался, ехал за рулем своей «победы», проводил ли ночной обыск, или со стоном наслаждения пробивал летку ее плавильной печи, или с отвращением лупил по мордасам идиотов-подследственных – во все времена, в любых делах думал только о Римме.
Каждый мужик знает: бывает в его жизни баба-наваждение. Не в красоте дело, не в уме и не в возрасте. Может, в нации? Я одного боевого парня знаю, так он негритянку любил! Хотя я лично думаю, что негритянку можно трахать только из баловства, от голода или спьяну. Ну, как зэки пользуют водовозных кляч, а чучмеки – коз.
Нет, это совсем другое. Сексуальный припадок, половой обморок, галлюцинация, бред.
Когда я обнимал Римму – ей было противно, будто собака лижет, обдает лицо зловонным дыханием. Я видел.
И стерпливал ее – в надежде, что слюбится. А она, сучара еврейская, не слюбливалась, хоть убей.
Люди ко всему привыкают. Привыкают к бедности, к унижению, к смерти. Привыкают даже к сданному мне в залог папаньке. Месяцы долгие всё тянулись, и обвыклись они с тем, что папка Лурье сдан мне на хранение заложником и от их поведения зависит, будет он или исчезнет.
Они не знали и узнать не могли, что давно уже их любимый папка и нежный муж, академик и профессор Лев Лурье пролетел над темной, вымученной и вымоченной Москвой серым облачком дыма, исчез навсегда беспаспортный неопознанный бродяга.
Они, дуры еврейские, любили – и оттого надеялись и верили в придуманную мною чушь. И, почти не сопротивляясь, приняли ту роль, которую я им навязал.
И Фира, мать, привыкла постепенно ко мне – хранителю их бесценного залога.
А Римма – не привыкла ко мне. Я помню ее всю, каждую клеточку, каждый волосок, любую складочку. Но это память о живой статуе, потому что она почти никогда не разговаривала со мной. Она молчала, глядя мимо меня. Если спрашивал о чем-нибудь – вежливо и коротко отвечала.
Когда я затевал с ней свою любимую игру «мэйк лав», она молча и бесстрастно подчинялась. Она даже не демонстрировала отвращения, а представляла это как-то так, что она, мол, вещь, принадлежащая мне на особых условиях, эротический автомат, животное, с которым я волен делать что угодно.
И все ее силы в это время уходили на борьбу не со мной, а с собственной физиологией, потому что я пробудил в ней чувственное ощущение соития, а был я тогда здоровый молодой мужик и хотел ее так, что мог бы сутками не слезать, и ее южная семитская кровь, предавая волю, бурно вскипала от мощного и неутомимого маха моего шатуна, и Римма, корчась от отвращения к себе и ненависти ко мне, начинала извиваться и стонать в судорогах сказочного наслаждения, над которым была не властна и которое считала грязным извращением, как если бы я был жеребцом или собакой.
Боже мой, сколько я натерпелся от этой половой ортодоксии, сколько радости недополучил!
Не стерпелась она, не привыкла. А ведь я мог делать с ней что хотел, но ни разу не испытал счастья мужчины, насытившего женщину полно и сладко. И от этого горела во мне злая неутоленность, будто никогда, ничего еще между нами не было, будто я прыщавый школьник, влюбленный в одноклассницу и мечтающий о том вожделенном и недоступном мгновении, когда она сама захочет меня. Но она не уступала в своей проклятой еврейской гордыне, не растворяла и не забывала свою жестокую иудейскую ненависть.
И потому я думал о ней всегда, как мальчишка думает о предстоящей первой женщине, – неотступно, темно и сладко. Как мы сейчас думаем о последней тайне – о загробной жизни.
Даже ее мать Фира согласилась с моим присутствием. Правда, сдала она сильно за это время. Волочила ногу и жаловалась: «…так болит кисть правой руки, что кофе я могу пить только левой…»
Интеллигенция пархатая, профессура иерусалимская, мать их етти!
Но именно благодаря ей стал я легально ночевать с Риммой в дому. И отношения наши начали плавно вытанцовываться в нормальный оккупационный брак. Штука в том, что Фира Лурье боялась оставаться в квартире. Она обвыклась с арестом мужа, и ее уже не пугал до обморока участковый милиционер, она приняла неизбежные условия жизни под колпаком МГБ, всеобъемлющим и грозным, как осеннее небо.
Она боялась новых подселенцев – Аниску Булдыгину с ее сыном, кретином Сережей.
Анкета Аниски состояла из сплошных полновесных плюсов – безупречное рабоче-крестьянское происхождение, неполное среднее образование, членство в ВКП(б) с тридцать седьмого года. Уж не говоря о том, что она была многолетняя и добросовестная осведомительница наших славных органов.
С этакой прекрасной биографией мы бы ее куда угодно протолкнули – хоть во Всемирный совет мира, хоть в стахановские руководители, хоть в научные комиссары! Нам такие люди всегда нужны.
Но, к сожалению, все эти весомые и реальные плюсы перечеркивались жирным минусом ее животной любви к своему дегенерату-сыну. Из-за него она работала в жилконторе – чтобы быть поближе к дому, побольше уделять ему времени.
В кретине росту было под два метра. Костистый сухопарый обормот с короткой солдатской стрижкой, похожей на пыльный серый бобрик. Сидел ли он на табуретке в кухне или слонялся с невнятным бормотанием по квартире, затаивался ли в темном углу коридора, в любом положении он ни на миг не останавливался в страшном маятниковом раскачивании – вперед-назад, вперед-назад. Со стороны казалось, что бьет он несчетные поясные поклоны, будто исполняет вечную епитимью, и бессмысленное пузырящееся бормотание на его губах – непрерывная молитва, нескончаемая мольба о прощении за несовершенное им преступление.