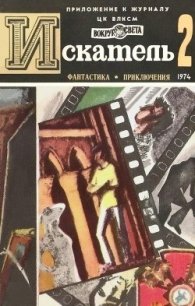Петля и камень в зеленой траве. Евангелие от палача - Вайнер Аркадий Александрович
Нестерпимый блеск маркетри никогда не пользуемой египетской столовой, в сервантах которой замуровано, как в пирамиде, испанское серебро.
Солидняческий креслаж в кабинетном гарнитуре «Луи XIV» – привет из Румынии.
Шотландские пледы на нашем венгерском, резного дерева, ложе услад.
И нищие братские вьеты предложили на нашу койку радостей тонкое белье. А враждебные китайцы – пуховые одеяла и подушки.
На трельяже моей любименькой изобилие флаконов, баночек, тюбиков и коробочек из Белль Франс. Столько, что хочется понюхать кусочек говна.
Золотые колечки, цепочки, мониста, украшения из Мексики.
Пакистанские ковры, ласкающие натруженные в молодости ноги.
Мурлычат, горланят, вещают все вместе – голландская вертушка «Филипс», японский видеомагнитофон «Акай», американский транзистор «Зенит».
Канадская куртка «Голден Дак», кофты из Италии, кожаные пальто из Турции, дубленки бельгийские, шапки шведские, плащи из Исландии.
Кто там еще остался неохваченным? Что там еще не попало в список моих трофеев? Чего еще не довез, ходя по миру со словом правды на устах и командировочными в кармане?
Тихонько тикают на руках швейцарские часы «Филип Патек».
Не внесли еще дань тебе, Марина, ничтожное Монако и республика, названная в честь тебя, Сан-Марино. Но в Монако Большую рулетку навынос не дают, а океанарий тебя не интересует. Что касается республики имени тебя, то там все в порядке: уже оба регент-капитана коммунисты. Может, скоро меня пошлют туда регент-полковником.
И что́, от всего-то от этого – третий мировой развод?! Воевать? Да вы с ума сошли, дорогие западные политики! Оно и так – со временем – все будет наше. Как почти новый голубой «мерседес» на шипованной резине.
Так что – все в порядке. Я ведь слышал, Мариночка, как ты, мурлыча с какой-то другой идиоткой по телефону, который я, кстати говоря, привез из Сингапура, – сказала кокетливо:
– В нашем доме нет ни одного советского гвоздя…
Это хоть не патриотично, но правда. Кафель в сортире и тот гэдээровский, обои – португальские, гардины – из Сирии.
А что же в нашем доме наше – советское?
Стены. Нерушимые высокие стены нашего дома. А дома, как известно, в первую очередь помогают стены. Поэтому, Мариночка, взгляни на свою старшую подругу Софью Власьевну и поучись уму-разуму. Коли она не ломает стены, то и ты сиди тихонько, чтобы вдруг не оказаться однажды с голой жопой на морозе.
Допил шампанское, донышко на свет посмотрел. Блекло-изумрудная патина уюта. Московская зелень. Западно-берлинская лазурь.
Включил душ, посидел немного под его теплым дождем и полез из ванны в этот зеленый мир – обреченно, бессмысленно, как выходили на землю первобытные ящеры.
Где я есть?.. И где я должен быть?..
И сразу же в груди кольнуло больно, тяжело прижало дыхание. Сев фасольки «тумор» начался на моих полях раньше, чем в прошлый раз. Когда жатва? Закончим досрочную уборку зернобобовых?
Не хочу! Не дамся! Господи, из каких передряг я выбирался! Неужели сейчас не устроится как-то? Не может быть…
Треснул пронзительным звоном телефон. Майка! Мангуст! Детки мои дорогие, трудновынянченные! Подбежал к аппарату, сорвал трубку, и в ухо мне всверлился пронзительный еврейский тенорок:
– Мине, пожалуйста, нужен Лев Давидович…
– Ошиблись номером.
Шваркнул трубку и пошел бриться. Где-то в отдалении шуршала Марина. Не видя, я все равно чувствую ее присутствие, с кровожадным отвращением, с желанием – как кошка ощущает мышь за плинтусом.
Интересно, она все еще читает своего Симону де Глазунова?
Не успел выбрить подбородок, как снова зазвенел телефон, и тот же въедливый еврейский голос потребовал, если можно, пожалуйста, позвать к аппарату Льва Давидовича.
– Его убили, – сообщил я твердо.
– Как?! Что ви мине говорите?
– Да, он умер, – подтвердил я печально. – Это сделал Рамон Меркадер лет сорок назад. За справками обращайся в Мехико, еврейская морда…
– Хулиган! – взвизгнула трубка, забилась трепетно в руках, побледнела, взмокла вся вонючим потом гневного еврейского испуга. – Хам! Сви-ння!.. Ви мине еще ответите!.. Свин-ня!..
И от этого пронзительного возгласа – «свин-ня!» – сильнее сдавило в груди. Смешно: единственное, что евреи не научились делать лучше нас, хозяев своей земли, – это ругаться матом. Их матерщина неубедительна, неорганична, она не от души, не от печенки, не от костного мозга. В их устах матерная брань похожа на неловкий перевод, на маскировку чувств.
Вот родное свое ругательство – «свин-ня!» – он закричал мне от сердца, все ухо высвербил.
Когда-то давно – ух как незапамятно! – Фира Лурье, твоя бабушка, Майка, моя, можно сказать, теща, мучительно морщась, что-то быстро проговорила по-еврейски.
– Переведи! – быстро приказал я Римме.
Она покраснела, заерзала, забегала растерянными глазами, но врать-то не умела и под моим требовательным взглядом, запинаясь, стала бормотать:
– Это в Писании сказано… вот мама вспомнила… у пророка Исайи… в форме иносказания – «…живу среди народа, у которого уста нечисты…».
Она боялась, что я обижусь, а я рассмеялся. Это Фира, теща моя названная, сказала про соседей.
Да! Они уже жили с соседями. Поскольку дед твой, Майка, не умер загодя от инфаркта, а скончался от острой сердечной недостаточности на руках тюремного доктора Зодиева, его семья уже не имела права на квартиру в старом сокольническом особнячке и подлежала уплотнению. Из болота мелкобуржуазной отчужденности их подняли до высот коммунального быта.
В столовую профессора Лурье въехал из подвала флигеля шофер Шмаков с туберкулезным ребенком и женой Дуськой, грузчицей, всегда усталой мохноногой кобылой. Они были люди тихие: у Дуськи после работы не было сил шуметь, а ее достопочтенный супруг – шофер Шмаков – шуметь не мог, поскольку был «фильтрованный».
В сорок втором году он попал в окружение под Харьковом, был взят в плен, отправлен в концлагерь, откуда трижды ходил в побег, но каждый раз немцы его ловили. Чудом уцелел и в апреле сорок пятого был освобожден наступавшими американцами.
Если бы Шмакова освободили наши – где-нибудь в Освенциме или Заксенхаузене, – он, конечно, попал бы в лагерь на проверку. В наш, простой лагерь, не какой-нибудь там концентрационный, а в обычный, исправительно-трудовой.
Но его освободили американцы, и само собой ни у кого не возникало сомнений, что мужика вербанули в шпионы. Так что загремел Шмаков в фильтрационный лагерь без срока, где фильтровали его года четыре и откуда он почему-то ни разу в побег не ходил – может, хотел втереть очки, а может, потому, что бежать некуда было. Не к американским же своим хозяевам, к шпионским нанимателям бежать!
В общем, перед большой посадкой конца сороковых решено было распустить безнадежных доходяг, и списали его на волю – без легкого и весом сорок один килограмм брутто, в бушлате лагерном и чунях на резиновом ходу.
Дуська, грузчица, жена его, похоронившая Шмакова много лет назад и прижившая неведомо от кого хорошенького белокурого мальчика, медленно умиравшего от туберкулеза, приняла воскресшего из лагерей супруга, выходила, отмыла его, подкормила, устроила работать на полуторку, и зажили они потихоньку, мрачно и бессильно ненавидя друг друга.
Субботними вечерами они до одурения пили водку «сучок», потом у вечно молчавшего, будто немого, Шмакова прорезался голос, и он начинал забористо, многоэтажно, виртуозно материть Дуську. А та никогда не прекращала скандал сразу – у нее, видно, было какое-то свое представление о драматургии семейного романа, а может, она жалела Шмакова и чувствовала, что если ему помешать, то он умрет, разорвется в клочья от душившей его ненависти. Черно-красное обмороженное лицо Шмакова усыхало, бледнело, на обтянувшейся коже резко проступали сизые рубцы, угрожающе вылезали вперед два сохранившихся в фиолетовой цинготной десне клычка, и весь он истекал отчаянной злобой на Дуську, необъятную, обильную, как мир, – такую же ненадежную, равнодушную, ничего не знающую про его страдания на фронте, в концлагерях немецких и фильтрационных наших, такую мясную и здоровую, когда сам он уже разрушен и скоро умрет, и она так же безразлично-милосердно впустит в свою кровать любого другого доходягу и так же выгреет, выходит, выкормит, а его уже не будет.