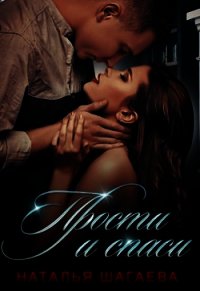Пастырь Добрый - Фомин Сергей Владимирович (библиотека книг бесплатно без регистрации .txt) 📗
И так приучил, особенно последнюю зиму, все большему и большему внимательному отношению к своим мыслям и чувствам.
Нужно было жить, обдумывая, что хорошо и что плохо. Жить осторожно, как бы не ошибиться. Ведь нужно было говорить о. Алексею. И если что по невнимательности забудешь, он сам тебе напомнит, да еще как.
О. Константин не позволял опаздывать к исповеди. Вот как–то было очень некогда и я уже с опозданием пришла к батюшке. А с Маросейки до моего «отца» идти было порядочно.
Прошу О. П. [297] (родственницу батюшки) пропустить меня без очереди, объясняя в чем дело.
— Вот сейчас у него Ш. (из «обобранных»), а потом вы идите. Ведь вы недолго.
В ожидании сели в столовой. Я забыла, что шла исповедываться к батюшке, и стала говорить, что попало. Осуждала Ш., что сидит без конца. Говорила, что «эти» только утомляют батюшку, а толку все равно не бывает от их хождения к нему. Говорила, что все они барыни и все очень безтолковые и еще что–то в этом духе.
— Они все только глупости говорят. Знаю я их, — добавила я с досадой.
Ш. вышла. Пошла я. Батюшка полулежал на кровати. На нем была епитрахиль. Свет был только от лампад.
Когда он исповедывал, то от покаяния ли во грехах, приносимого человеческими душами, или от его молитв за эти грешные души, или вообще от великой тайны исповеди, когда человеческая душа, истомленная разлукой с Господом своим, снова через покаяние очищается и как бы вновь соединяется с Ним, в церкви ли или у себя в комнате, — у о. Алексея иногда чувствовалось, что место это наполнено молитвой и какой–то страшной святости.
О. Алексей был строгий и глаза его большие, темные, светились. Лицо его было как бы изнутри озаренное светом. Он не сводил глаз с двери, из которой вышла Ш.
Я сразу почувствовала робость и тихо опустилась на колени перед ним.
— Исповедываться, батюшка, иду. Простите, если можно.
— Особенного ничего нет?
— Ничего.
— Старались исполнять свои обязанности?
— Да.
— Сердились на кого?
— Нет.
— Ненависти ни к кому не чувствовали?
— Нет, ни к кому.
— Осуждали?
— Нет.
— Нет?.. — повторил он грозно и подвинулся весь ко мне. Я сразу вспомнила, что осудила ее.
— Простите, батюшка, я больше не буду. Я… я совсем забыла.
— То–то. А говорите, главного нет. Смотри, — и он погрозился. — Не осуждать никого. — Он показал рукой на дверь, куда она вышла. — Ну идите. А завтра приходите показаться.
С тех пор, как начала исповедываться у батюшки, он мне всегда велел показываться после Причастия. Он, очевидно, просматривал мою душу, как она воспринимала это Великое таинство. И как, бывало, из–за этого готовилась к исповеди и к причастию, и как, бывало, просишь св. Николая, чтобы он сделал твою душу нарядной, чтобы был батюшка тобой доволен.
И всегда день Причастия или большой праздник отмечался у него. Ты чувствовала, что ты какая–то особенная в тот день, когда Господь тебя простил. В эти дни батюшка был всегда добрый и все тебе прощал. Бывало, что–нибудь боишься спросить у него, а в день Причастия или в большой праздник спросишь, и он всегда так хорошо все объяснит и разрешит тебе. Он любил также, чтобы в эти дни ты была бы радостная, и если случалось с тобою неладное, то нужно было это припрятать глубоко до другого дня, чтобы он в тебе не заметил непраздничного настроения.
В душе у меня было еще много старого. Например, в отношении к аристократии и богатым людям. Я их почти что за людей не считала. Признавала только крестьян, а их презирала и в их тяжелом положении не жалела.
Ваня мой часто говорил мне:
— Их больше других надо жалеть: они к жизни не приспособлены, они не умеют жить.
О. Константин тоже старался всеми силами отучить меня от их осуждения. Я не раз каялась, обещалась исправиться, но продолжала свое. Раз прихожу к батюшке.
— А о. Константин что? Как? — спросил он.
— Да он, батюшка, очень строго «гонял» меня на исповеди. Удивительно, как батюшка всегда чувствовал, когда о. Константин был недоволен мной.
— За что? — усмехнулся он.
— Я, батюшка, очень презираю всех прежних людей. Народ, мужиков только люблю, а их не жалею. Он вот за это и сердится.
— Правильно, что «гонял» и не так–то вас еще надо, — журил добродушно батюшка. — Разве они не люди? Разве не страдают? Всякий крестьянин легче переносит свое тяжелое положение, чем они. Он привык к лишениям, к тяжелой жизни, а они нет. Им вдвое труднее. Подумайте, их тоже ведь нужно пожалеть. Что же вы — большевичка? Ярмолович большевичка! Фу, как стыдно! Как же это может быть? У о. Константина духовная дочь большевичка. Это несовместимо.
Хотя он говорил не строго, но каждое его слово было очень сильно. При последних словах я вспыхнула от стыда и долго помнила их. С тех пор старалась, что было сил, исправиться.
Батюшка заботливо расспросил о материальном положении о. Константина, не нуждается ли? Спрашивал, как ему в приходе живется, не тяжело ли?
— Смотрите, если ему материально тяжело, скажите, непременно скажите.
— Ну, — подумала я, — что бы сделал со мной мой «отец», если бы когда–нибудь я батюшке заикнулась о деньгах для него.
Раз во сне у меня было какое–то необычайное для меня, очень страстное переживание. Я пришла в отчаянье. С большим стыдом поведала я свое горе батюшке. Чтобы еще больше не смутить меня, он даже не смотрел на меня. Когда я кончила, он спокойно сказал:
— Это ничего, не обращайте внимания. Это бывает от усталости. Пройдет. Человек за день устает, ему и лезет всякое в голову ночью.
— Батюшка, что вы? Разве раньше–то я не уставала? Еще не так.
— Тогда не то было. Не смущайся. Больше не будет. — И он, взяв мою голову в руки и крепко зажав ее, долго надо мной молился. — Ну, иди и об этом больше не думай.
Действительно, по его молитвам, это больше не повторялось.
У о. Константина умер брат и умер очень тяжелой смертью. Он меня послал к батюшке просить его помолиться за умершего. Батюшка очень опечалился. Видно было по его словам, что он считает нужным усиленно молиться за душу умершего, но что по их молитвам (батюшкиным и о. Константина) Господь упокоит ее.
Также он очень жалел о. Константина.
— Бедный, бедный… Ему и так трудно, а тут еще горе такое. Ну ничего. Будем с ним за него молиться. Как его звали?
— Батюшка, я позабыла спросить. Да на что вам? Точно вы не знаете?
Он улыбнулся и погрозил.
— Откуда же мне знать? Ну хорошо, скажи ему, что буду молиться. А имя все же узнайте мне.
Так часто бывало с о. Алексеем: имени не скажешь, а он все же будет молиться — Господь–то все знал, за кого Его о. Алексей молится. И батюшка это требовал так, больше для порядка.
На другой день приношу имя, а он встречает со словами:
— Ведь за Николая о. Константин велел молиться. Кажется, так звали брата его? — И, пристально посмотрев на меня, строго сказал: — Давай имя.
В последнюю зиму батюшка часто лежал. Все хуже ему становилось. Трудно было смотреть на него, как он задыхается. Иногда не мог ничего сказать от мучившей его одышки, а лечь его никак не упросишь.
— Батюшка, вы себя–то пожалейте. Смотрите, что с вами делается! Так нельзя же, — бывало упрашиваешь его.
— Ну–ну, будет уж! У вашего о. Константина тоже одышка ведь. Да какая еще! Когда мы вместе с ним были, она у него уже началась. Вот и у меня такая же, — весело шутил он. — Скажите ему, что о. Алексей говорит, что у него такая же одышка, как у тебя, о. Константин.
Как бывало жалко батюшку, что он по болезни и потому, что следили за ним, не мог почти что служить. И как терпеливо переносил он все это!
— Вот заперли медведя в своей «берлоге», — говорил он. — Не могу служить. Украдкой иногда. А тяжело бывает. Ух, как тяжело! Но что обо мне, старом, толковать. Церкви бы не повредить. А то увидит меня народ… а «они» — то с церковью, знаете, что могут сделать за это. Церковь моя маленькая, а закроют, жалко будет… Да и нужна она многим. Церковь… главное церковь, — сказал он и посмотрел на меня с такой любовью и тоской. — Видно по грехам моим так, — задумчиво добавил он.