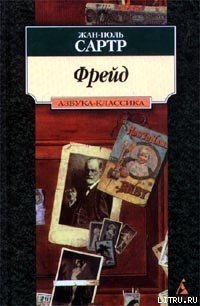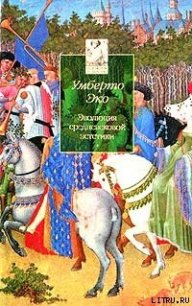Приготовительная школа эстетики - Рихтер Жан-Поль (читать книги бесплатно полные версии .TXT) 📗
Путь образного остроумия уводит далеко в сторону от образной фантазии. Фантазия пишет красками; а остроумие только раскрашивает. Фантазия оживляет и украшает облик — эпически, с помощью всевозможных подобий; остроумие холодно смотрит на то, что сравнивается, и на то, с чем сравнивается, — и то и другое растворяется у него в духовном экстракте отношения. У Гомера и сравнение не просто средство, он придает своеобразную жизнь и тому, с чем сравнивает. Поэтому остроумное сравнение, самостоятельное и менее лиричное, больше пригодно для иронического эпоса, особенно если его вводит в эпос искусная рука Свифта, — тогда как метафора и аллегория более подходят для капризного лирического настроения. Поэтому у древних образное остроумие было не так развито — древние с присущей им объективностью стремились строить облик, а не разлагать его избытком остроумия. Поэтому поэзия больше любит одушевлять неживое, а остроумие — лишать живое плоти. Поэтому образная фантазия во всем зависит от единства своих образов, — они должны жить, но не может жить существо, члены тела которого не знают мира между собой; напротив, образное остроумие может заставлять читателя подскакивать на каждой запятой, потому что цель его — создать неживую мозаику; под тем предлогом, что оно сравнивает лишь само себя, остроумие может без малейшего смущения менять в продолжение одного периода ракеты, перезвоны, резные украшения, туалетные столики и туалетную воду — как ему заблагорассудится. Но над этим редко задумываются критики, выносящие свои суждения об эстетических программах и лейпцигских лекциях.
У англичан и у немцев несравненно больше остроумных образов у французов больше остроумной рефлексии; эта последняя уместнее в обществе и в компании, а в первом случае фантазии предстоит долго распускать свои паруса, что в комнате делать неудобно и затруднительно. Какой длинный, взаимно отражающийся ряд сходств подчас заключает в себе одно-единственное сравнение Юнга или Музеуса! Что бледный французский жемчуг третьей воды перед английскими алмазами первого огня! Мадам де Неккер среди примеров оправданной смелости приводит следующий: пламенный Бюффон не поколебался придать слову volonte бурную метафору — vive {2}. Но если вся Франция, следующая правилам, одобрительно восприняла этот поэтический образ, воплощающий волю, то философствующая Германия видит в нем лишь выражение в собственном смысле и даже плеоназм; ибо ведь только воля по-настоящему и живет.
Поскольку во французской казне и сокровищнице образов помимо мифологической утвари мало что можно найти — разве что обычное трагическое вооружение и чернильный прибор поэта, троны, скипетры, кинжалы, цветы, храмы, закалаемые жертвы, немножко пламени и золота (отнюдь не серебра!), эшафот и некоторые наиболее привилегированные из членов тела, то французы и пользуются этими последними, поскольку такой поэтический столовый прибор у них всегда под рукой, особенно руки, ноги, губы, чело, причем пользуются столь же часто и столь же смело, как поэты восточные и дикари, что наподобие французских материалистов, строят Я из членов тела. Вольтер сказал: «Le sommeil carresse des mains de la nature» {3}. Другой поэт выразился не столь дурно: «Ses mains cueillent des fleurs et ses pas les font naitre» {4}. Так по-восточному дерзновенно придают они Надежде, Времени, Любви — руки, коль скоро антитеза в свою очередь может что-нибудь противопоставить и придать рукам — ноги, или губы, или колени, или сердце.
Бедное сердце! У доблестных немцев это по крайней мере один из эпонимов мужества, но во французской поэзии это, как в анатомии, самый сильный мускул, причем с самыми тонкими нервами. Комический поэт, по всей видимости, не остановился бы перед тем, чтобы назвать несчастное сердце — globe de compression {5} или globulus hystericus {6} галльской Музы — или воздушной пулей ее духового ружья — или пиротехническим колесом ее фейерверков — или валиком ее шарманки — или кассой ее сверхприбылей — или плавильной печью — или всем прочим; однако нужно быть человеком, лишенным или почти лишенным вкуса, чтобы не счесть все подобное совершенно несовместимым с тоном, какого требуют настоящие эстетические программы.
Аллегория реже бывает последовательно развертываемой метафорой, а чаще — произвольно измененной. Это самый простой вид образного остроумия и самый опасный род образной фантазии. Она потому столь проста, что, пользуясь олицетворением, может применить и все то, что для сравнения слишком близко и голо, и затем все то, что для сравнения слишком далеко (ибо, дерзко приближая, она принуждает и дух); наконец, потому, что она сама разрабатывает и совершенствует то самое, с чем сравнивает, и в зависимости от того, что сравнивает; кроме того, она неприметно для глаза меняет метафоры. Настоящая аллегория сцепляет с необразным остроумием остроумие образное, и Мёзер пишет: «Опера — это позорный столб, к которому привязывают уши, чтобы выставить на всеобщее обозрение свою голову» {1}. Зато дурна такая аллегория Юнга: «Каждый похищенный у нас друг — это перо, вырванное из крыльев человеческого тщеславия и заставляющее нас спуститься со своих заоблачных высот и на потерявших силу крыльях падающего честолюбия (сплошные тавтологии!) скользить у самой земли, пока мы, падая, не разрываем ее поверхность, чтобы покрыть прахом земным разлагающуюся гордыню (теперь метафора падения перешла в метафору зловония) и избавить мир от чумы» {2}.
Холодный Фонтенель однажды выразил аллегорически, — причем две одинаковые метафоры считались тут разными идеями, — выразил аллегорически... пустое ничто. Сравнив философию с детскою игрой, когда все ловят друг друга с завязанными глазами, но должны назвать имя пойманного, иначе беготня начинается сначала, он продолжает: «Дело не в том, что мы, философы, никогда не можем поймать истину, хотя глаза у нас и завязаны; но мы не можем утверждать, что поймали именно истину, а она тем временем ускользает от нас». Ведь истина не означает, что мы мыслим такое-то суждение; истина означает, что мы полагаем и утверждаем, следовательно, и называем ее; итак, то, что мы считаем истиной, мы действительно выдаем за истину или называем ее истиной; как же может она ускользнуть от нас?..
Бог {3} любит троицу, и потому приведем еще один пример. — пример ошибки, — взятый у третьего народа, у немцев, именно у самого Лессинга {4}. Сказав, что пишет о художниках и поэтах, а не для них, Лессинг продолжает: «Я распутываю паутину шелковичных червей, не для того, чтобы учить их прясть (это уже звучит так, как если бы было написано: я стригу овец, но не для того чтобы учить их носить шерсть), но для того, чтобы изготовить из этого шелка кошельки для себя и для себе подобных (почему кошельки, а не чулки, и если кошельки, то почему надо делать их шелковыми?..), кошельки, чтобы продолжить сравнение (собственно, аллегорию), куда я буду собирать мелкую монету отдельных ощущений (где же тут естественный переход от шелковичного червя к монете, да еще мелкой, которая переходит в третью аллегорию?) до тех пор, пока не смогу поменять ее на добрые полновесные золотые обобщенных наблюдений (вымученно, — пытается, как может, двигаться вперед при помощи тавтологий), а их отнести к капиталу самостоятельно продуманных истин (тут я вижу четвертую аллегорию, но куда же подевался червь?)»...