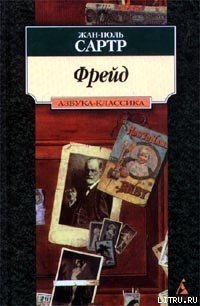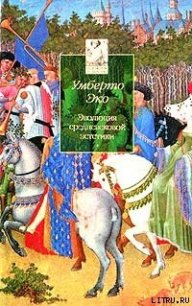Приготовительная школа эстетики - Рихтер Жан-Поль (читать книги бесплатно полные версии .TXT) 📗
Этот вид необразного, или рефлективного, остроумия состоит в том, что какая-либо идея противопоставляет себя себе самой, а позднее все же заключает мир с своим Не-Я — мир, основанный на сходстве, не на тождестве. Я не собираюсь говорить сейчас о вещах философских, а имею в виду лишь круг остроумия, эту подлинную causa sui {1}. Круг этот столь прост, что не требует ничего, кроме доброй воли; вот примеры — отдыхать от отдыха — заключить в темницу Бастилию — воровать у воров... Помимо краткости особенно радует здесь то обстоятельство, что дух, вечно идущий вперед, во второй раз видит перед собой, но только своею противницей, прежнюю идею, например, «отдых», — ввиду тождества он вынужден разведывать некое сходство ...между ней и ею самою. Мнимая война вынуждает заключить мнимый мир. Посложней тот круг, или, вернее, пестрый многоугольник, который построила мадам Дюдеффан, когда сочла очень скучным и неотесанным строителя автоматов Вокансона {2}: «Я высокого мнения о нем, — заметила дама, — готова поспорить, что он сам построил себя».
К остроумию рефлективному относится антитеза, но только вполне необразная; ибо у французов она по большей части наполовину необразная, а наполовину — воображение увлекает за собой! — образная; например: que ses arbres reunis soient de nos feux purs et l'asyle et l'image {1}. Антитеза противопоставляет суждения, обычно причину следствию, и наоборот. Субъект получает противоречивые предикаты, точно так же, как выше один предикат доставался противоречивым субъектам. И такая эстетическая видимость тоже возникает, будучи подтасована языком. Если Юнг с его острым умом заявляет о человеке, разыгрывающем рассеянного: «Он завязывает узелок, чтобы что-то забыть» {2}, то Истина сказала бы так: «Он завязывает узелок, чтобы вспомнить, что хотел сделать вид, будто забыл». Неистинность противопоставления нередко ловко прячется в языке, например: «Французы должны стать судьями Робеспьера или его подданными». Ибо судьям противопоставляются подсудимые, подданным — правитель, а не судьи подданным.
Чтобы придать бытие, свет, силу антитезе, с французской стороны часто высылают вперед самый обыденный тезис. «Не знаю, — сказал француз, прибегнув к своему древнему обороту речи, — что сказали бы греки об Элеоноре, о Елене они молчали бы». Дальше {3} всего зашел в этой вялой манере выражаться Вольтер; он довел ее до полной бессмыслицы и непристойности, сказав о Фенелоне по случаю спора с янсенитами: «Не знаю, еретик ли Фенелон, утверждавший, что божество надо любить ради него самого, но я знаю, что Фенелон заслуживал, чтобы его любили ради него самого». Даламбер в своем похвальном слове Фенелону опять приводит эти слова в качестве прекрасной похвалы. «Я бы хотел, — сказал второй Катон, — чтобы меня спрашивали, почему нет статуи в мою честь, а не почему она есть» {4}. Не будь тут рокирующихся суждений, Катон не блистал бы и не одержал таких побед (на манер того, как сам я выше), — я хочу сказать, что он не так запомнился бы потомкам и потомкам потомков, если бы молния явилась после грома и фраза повернулась бы так: «Мне неприятнее, когда меня спрашивают, почему стоит статуя в мою честь»... «Конечно, — прервали бы его потомки, — но непонятно, зачем ты это говоришь»... После чего он продолжал бы и сказал бы вторую фразу, ту, что получше, но уже несколько поблекнув. Будь то воины или суждения, победить — значит правильно выбрать позицию.
Прекраснее всего антитеза и выше всего поднимается на небосводе тогда, когда ее почти не видно. «Много времени нужно, — говорит Гиббон, — чтобы мир погиб, — но и ничего кроме» {5}. В первом суждении, тезисе не бесплодном, время сопровождало неведомую Парку, — и вдруг оно стоит перед нами — сама Парка. Этот совершаемый взглядом скачок свидетельствует о такой свободе, которая впоследствии еще приблизится к нам, — прекраснейший дар острого ума.
И тонкость я тоже отношу к необразному остроумию. Можно, правда, назвать ее лестью инкогнито, поэтической reservatio mentalis {1} или энтимемой {2} порицания, и по праву; но в этом параграфе ее называют знаком знака. «Quand on est assez puissant pour la grace de son ami, il ne faut demander que son jugement» {3}. Под jugement понимается, однако, и damnation и grace {4}, это возможно; фантазию принуждают считать одним и jugement и grace, вид — подвидом. Точно так же де ля Мотт говорит, что в случае, когда предстоит великий выбор добродетели и порока, hesiter ce seroit choisir {5}, поскольку выбор тут вообще означает выбор дурной, а hesiter — опять же выбор — знак знака; такая фраза доставляет удовольствие своей краткостью и иллюзией неизбежной односторонности. Когда один гасконец вежливо согласился с рассказом, показавшимся ему невероятным, он прибавил: «Mais je ne repeterai votre histoire a cause de mon accent» {6}. Диалект означает здесь гасконца, гасконец — неправду, неправда — отдельный случай, итак, почти что знаки знаков знаков.
Но для тонкой речи кроме таланта нужен еще и предмет, который вынуждал бы понимать. Вот почему так легко понимать тонкие речи, если они основаны на двусмысленностях в отношениях полов; да и всякий знает, что, коль скоро он не может разобраться в двусмысленности, ему надлежит искать за ней один смысл, нечто весьма определенное среди самого всеобщего. Фантазия европейца так портится с каждым веком, что в конце концов станет невозможным не быть бесконечно тонким, когда не понимаешь, о чем речь.
Далее, только тех лиц можно хвалить тонко, на чьей стороне уже самая решительная хвала; решительная — знак, тонкая — знак знака, вместо знака похвалы тогда можно подставлять голый знак знака. Поэтому — если не предполагается молчаливо, что совершается это по искреннему убеждению или из деликатности, — величайшая тонкость легче всего обращается в свою противоположность. Среди всех европейских посвящений (точно так же как французские — наилучшие) немецкие — наихудшие, то есть вполне лишенные тонкости, то есть наиболее явные. Ибо немец все любит немножко выставить на свет, и сам свет; для тонкости, этой краткости вежливости, ему недостает мужества.
Сочинитель настоящего, отнюдь не будучи нескромным, смеет надеяться на то, что в своих посвящениях всегда был столь тонким, как мало кто из французов, — что, во всяком случае, являет истинную заслугу, хотя и не его.
Как к необразному остроумию преимущественно причастен рассудок, так к образному — фантазия; помощники для первого — иллюзии поспешности и языка, для второй — чародейство совсем иного рода. Та самая неведомая сила, что слила в одну жизнь две столь неподатливые сущности, как плоть и дух, растопив их своим пламенем, повторяет и в нас и вне нас это облагораживание и смешение, вынуждая нас без связи и последовательности вызволять из-под гнета тяжкой материи легкое пламя духа, выделять из звука — мысль, извлекать из частей и черт лица — силы и движения духа и так повсюду высвобождать внутреннее движение движения внешнего.