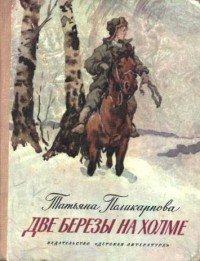Женщины в лесу - Поликарпова Татьяна (полные книги .txt) 📗
Наверное, оттого, что подъем на перевал, особенно последние часы, был трудным, оттого, что поднялись на седловину уже в полной тьме и так, в темноте, только при свете костра (топливо несли с собой) разбили палатки, а какой он, окружающий мир, было просто не видно, — наверное, потому казалось, что из последних сил они вознеслись в самую поднебесную высоту.
Когда кончилась недолгая в этот раз суматоха ужина, и многие сразу же разбрелись по палаткам и затихли, Ольга с Софкой отошли от костра и остались одни. Глубокая, но в то же время как бы прозрачная тьма растворила контуры палаток. Высокая твердь неба была намечена резкими колючими звездами. Казалось, девчата на каком-то медленно поворачивающемся под звездами острове и ничем не связаны с остальной землей.
Лишь когда они подошли к началу крутого склона, заметного только потому, что их остров все же был из более плотной тьмы, чем небо, они увидели землю. И оказалось, что она еще дальше от них, чем небо, и чернее его, и тоже помечена скупо разбросанными и более тусклыми, чем звезды, огнями. А далеко-далеко, у бесконечно удаленного горизонта, изгибались огненные змеи — одни пропадали, возникали другие, — они разбегались в стороны, перемещались и все равно как бы оставались на одном месте.
— Траву жгут. Палы, — сказал кто-то сзади них. Ольга оглянулась: оказывается, они не одни. Ребята — кто сидел, кто стоял у самого склона — смотрели туда, в долину.
— Отсюда, наверное, километров за сто видно — с такой высоты.
— Даже, может, больше.
— Только Алазань светится…
Она в самом деле чуть светилась. Тонкая, слабая ниточка реки отражала свет звезд. Одна, заметная на глубокой черноте земли, как ватерпас обозначала ровную плоскость долины и ее протяженность и еще раз давала ощутить, сколь высоко вознесен их лагерь.
Ребята переговаривались тихо, и голоса, и слова не имели силы спугнуть странное, никогда ранее не испытываемое Ольгой ощущение. Наверное, труд сегодняшнего подъема, когда ноги подламывались, а сердце стучало в самом горле и только воля заставляла совершать каждый следующий шаг, подготовил ее к теперешнему состоянию. Сердце билось медленно и сильно, дыхание было таким глубоким, таким полным, что сама себе она казалась одновременно и легкой и крепкой. Она и вовсе бы не чувствовала своего тела, если бы не свежесть этого темного, чистого воздуха поднебесья: он омывал ее, протекал сквозь нее, оставляя в самой середине груди, наверное там, где живет душа, холодок, замирание — как перед последним толчком, срывающим лыжника с кручи.
Этот миг Ольгиной жизни был равен вечности, потому что и воздух, и блеск звезд, и темнота, и свежесть сейчас ею и были, ее продолжали, и не осталось больше границ между нею и прильнувшим к ней пространством.
Ольге казалось, что она — вот только что! — нашла себя. Что до сих пор она и не знала себя, не жила вся целиком, а только как бы половиной своей души. И вот здесь, сейчас, ей вернули вторую половину, и душа стала цельной, круглой, как весь этот мир вокруг нее, душа стала сама собой.
Она вдруг подумала, как мелко и незначительно все, что осталось там, внизу, на земле. Все, что томило, тяготило ее сердце, посягало на ее волю и внимание. Эти тысячи и миллионы желаний: кому-то нравиться или не нравиться, что-то успеть, доказать или кого-то разубедить, проявить или скрыть, не дать заметить… Тысячи условностей — можно или нельзя, — тщеславных до детскости забот связывали ее жизнь.
«Какое все это имеет, имело значение?!» — с замиранием сердца думала Ольга. Думала, стыдясь за себя прежнюю, вспоминая угрюмоватый исподлобья взгляд Кости, враждебно и ревниво следящего за каждым ее шагом, за каждой улыбкой, обращенной к другим; вспоминая свою робость при случайных встречах с Андреем. Она мучительно краснела при этом. А почему? Только потому, что он был красив, и однажды на лекции она загляделась на него, а он перехватил ее взгляд. Ольга вспыхнула тогда: о чем может теперь подумать он. Ах, ах, как сложно!
Господи! Вот лилипутство, вот рабство! Это всё равно ничего не значит! Если ты свободный человек!
Она не смогла одна пережить свое открытие.
— Соф, — позвала тихонько, — как мы жили! Как постыдно! И о чем заботились: что про тебя подумают! Нравишься ты кому или не нравишься! Ф-фу! Ну какое это имеет значение!
— Никакого! — сразу, страстно, без секунды раздумья отозвалась Софка.
Недаром они так быстро подружились — всего две недели похода вместе, а Софке ничего не нужно объяснять.
Ольга поняла по одному ее слову, что Софка переживает то же самое, что ей тоже теперь удивительно, какие лилипутские чувства держат ее на земле, ее, свободную, прекрасную и гордую Софку.
Удивительно! Ты — человек, ты добр и велик. Ты протягиваешь руку и даришь всех кругом своей улыбкой, своим Расположением, и какое тебе дело до того, что кто-то примет твое Расположение и Доброту за желание нравиться, твою Веселость назовет заигрыванием, а твое Спокойствие и Задумчивость — равнодушием! Друзья, такие, как они с Софкой, поймут все, как надо, а те, что не понимают, пусть радуются, злорадствуют или огорчаются. Нам-то что? Сдерживать себя — лишь бы они не поняли тебя превратно! Ведь так недолго сделаться и другим человеком! Желая постоянно в глазах других быть самой собой — потерять себя!
Просто — быть! Не оглядываясь, кто что подумает, — быть. Чувствовать себя всегда вот такой, как сейчас, — независимой. И когда придет настоящая любовь, ты поймешь ее, узнаешь сразу, как сегодняшнюю ночь, а не придет — не надо!
Они стояли, обнявшись, среди огромного ночного мира, среди черно-лилового, прозрачного и прохладного мрака, разлитого и ввысь и вниз — от звезд неба до огней земли, — две девочки, в которых совершалось одно из загадочнейших таинств природы: из девчачьей, робкой и угловатой, рождалась иная — женская — душа. Ибо то, что испытывали они тогда — гордость собой и силу, — просто-напросто было знаком, что впервые ворохнулся в них, дал о себе знать самый удивительный дар, врученный женщине: способность любить, предчувствие верности — пожизненные радость и маета. Все же остальное потому и показалось — да и впрямь было! — чепухой, лилипутством.
Как бы потом у них ни сложилось, в какие бы передряги ни пришлось им попасть, как бы ни мололи их житейские жернова, им не забыть этой высоты.
Потом, осенью, вернувшись в университет, Ольга выслушивала комплименты, втайне про себя улыбаясь: «Как тебе идет загар! Ты просто стала другой! И глаза изменились!»
Она-то знала, что это новая ее душа отражается в ее глазах, руководит движениями, походкой. Пусть думают, что загар…
Ольга спокойно и щедро улыбалась Витьке и девчатам: уже прогромыхало над составом — гнусаво и железно: «Провожающим выйти из вагонов!»
Они пошли по тесному проходу, оглядываясь на Ольгу, посторонились, давая пройти двум парням в форме студентов-геологов. — Парни несли чемодан и рюкзак. Витька ревниво-враждебно бросил им вслед: «Там только одно место свободно!»
— А мы не жадные! — добродушно отозвался один, скинув с плеча рюкзак на скамью, где только что сидели девчата. Чемодан, очевидно пустой, он зашвырнул на багажник и стал, опершись лбом и локтями о край второй полки, нависая над Ольгой вопросительным знаком. Посмотрел на нее внимательно:
— Ну вот, нам больше и не надо! Разрешите?
Ольга пожала плечами. Дескать, чего спрашивать, когда все равно больше мест нет.
— Я сейчас! — доверительно бросил ей парень, и они с товарищем убежали.
Он вернулся, когда поезд уже миновал Москву и Ольга соображала, что делать с его багажом.
— Понимаете, в последний вагон вскочил, заболтались с другом, — сообщил парень.
У него было приятное — чистое, темнобровое и темноглазое — лицо, спокойный внимательный взгляд без тени той тщеславной уверенности в собственной неотразимости, которая обычно свойственна более или менее привлекательным ребятам. И она порадовалась, что с ним можно будет поговорить про геологию, не опасаясь какого-нибудь дурацкого заигрывания.