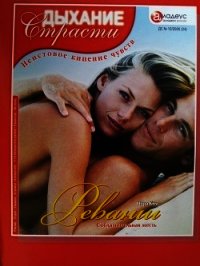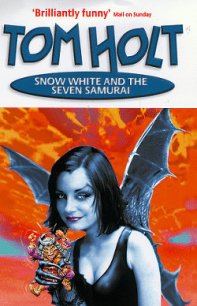Справедливость для всех. Том 1. Восемь самураев (СИ) - Николаев Игорь Игоревич (книга бесплатный формат TXT, FB2) 📗
Девушка смотрела на менестреля снизу вверх и терпеливо ждала ответ. Гаваль, чтобы выиграть пару мгновений на обдумывание, поправил торбу, шмыгнул носом и почесал небритый подбородок.
— Нет, — сказал он, в конце концов, самым решительным голосом, на какой был способен.
Девушка моргнула карими глазами, в которых не имелось ни сказочной бездонности, ни выразительности, лишь доверчивая наивность, как у олененка. Гаваль ощутил укол неудобства, происходящего из накрепко заученных добродетелей истинно верующего. Юноше захотелось утешить это создание, погрязшее в убожестве сельской жизни, обреченное на беспросветный тяжкий труд и вечный страх перед чужим своеволием.
— Нет, — повторил он еще решительнее. — Мы не позволим.
— Правда? — с прежней наивной бесхитростностью уточнила девушка.
В душе Гаваля происходило непонятное, этакое бурление и коловращение, похожие на угрызения совести. Юноша повторял себе, что не обязан крестьянам никак и ничем, а без ответственности не может быть и сомнений. Но при виде больших темных глаз обычной селянки в простом платьице и зеленом платке безупречная рассудочная логика давала сбой. Живой разум и яркое воображение Гаваля тут же рисовали картины того, что осатаневшая солдатня будет творить с такими вот девчонками, когда ворвется в Чернуху, сокрушив невеликую силу обороняющихся.
— Честное слово, — пообещал он и добавил после краткого мига сомнений. — Мы не позволим. Господин Ар… наш господин очень храбр, его воины… мы сильны и доблестны.
Она улыбнулась все с той же наивной бесхитростностью, как человек, всю жизнь видевший только привычный уклад и знакомые с младенчества лица. А потому редко (или вообще никогда) не встречавшийся с настоящим обманом, изощренной ложью.
— Ты славный, — сказала она. — И боевитый.
Будучи, как и положено мужчине, тщеславным типом, который падок на лесть, а в глубине души уверен, что велик, ужасен и действительно крайне боевит, Гаваль машинально приосанился, чтобы грудь выпятилась, а плечи развернулись, подчеркивая стать.
— И красивый, — добавила девушка, по-прежнему не выпуская рукав менестреля.
Черт те что, подумал юноша. Между тем сердце у него забилось чаще, стало жарко, несмотря на прохладу, румянец окрасил щеки в очаровательно розоватый цвет, обостряя и так выразительные скулы. Девушка робко улыбнулась и взялась за рукав и второй рукой, тихо вымолвила:
— Пойдем.
И он пошел, увлекаемый молодой крестьянской женщиной, не зная куда и плохо понимая зачем. Надеясь на то, что могло бы произойти, однако желая разорвать связь и бежать далеко-далеко. Страшась и одновременно вожделея сам не зная чего, как положено молодости, когда все ново и будоражит кровь…
Спустя много лет, пережив друзей и сподвижников, перебирая, словно бусины в очень длинном ожерелье, многочисленные воспоминания долгой жизни, Гаваль искал средь них те события, что направили его по этой дороге. Событий и развилок было много, но именно тот ранний вечер необычно теплой, затянувшейся осени неизменно казался старику одним из ярчайших эпизодов. Событием, когда все, что происходило, оказывалось наполнено особым смыслом и совершалось, будто по воле самого Пантократора.
Дом, куда вели юношу, словно бычка с веревкой на шее, оказался на краю деревни, у забора. Обычный, ничем не примечательный дом с огородиком (кажется аптекарский), пристроенным сараем и пустой сушильней то ли для рыбы, то ли еще чего. Рыбой не пахло, поэтому, наверное «еще что». Гаваль шел, как зачарованный, ожидая, что вот-вот его кто-нибудь начнет бить за попытку совращения местной, однако всем, похоже, было наплевать. То ли каждый встречный поглощен своим делом, то ли здесь имелись какие-то своеобразные обычаи, а может просто фартануло, как бывает в сложные времена большой опасности.
В общем, Гаваль более-менее опомнился, когда за ним стукнул засов, а впереди оказалась большая комната на всю ширину дома — главный зал, где обычно проходила вся жизнь домочадцев. Здесь было пусто, необычно пусто для довольно большого строения, где нашлось бы место неполному десятку жителей. Лишь у холодного очага сидела на соломенной циновке маленькая старушка, грея тонкие, изломанные временем и трудом пальцы над горшочком с углями. Очень старый платок, изъеденный временем, стиркой и молью, прикрывал сутулые плечи, острые, словно рыбьи кости под тонким покровом дряхлой плоти. Старушечий взгляд помутнел от прожитых лет, и Гаваль не видел в нем искры разума.
— Кто это… — вздрогнул юноша.
Девушка сначала не поняла, затем качнула головой и ответила:
— Бабуля.
— Э-э-э… — проблеял Гаваль, тыча пальцем в старушку, но менестреля уже крепко взяли за пояс и увлекли в дальнюю комнату, туда, где были закрытые ставни, полутьма, освещаемая лишь сальным огарком свечи, а также низкая, рассохшаяся от времени кровать с тощим тюфяком. Тюфяк оказался набит свежей соломой и адски кололся даже сквозь плотную ткань. Вместо подушки в изголовье лежал чурбачок, его почти сразу же сбросили на пол из-за ненужности, даже вредности в разворачивающемся действе. За деревяшкой последовало одеяло, а затем и платье девушки.
Огонек свечи мигнул, погас, то ли сам по себе, исчерпав естественный срок, то ли задутый второпях.
От селянки пахло травами, будто девушка работала в аптечной лавке. У кожи был солоноватый привкус, а губы, наоборот, казались чуть горькими, как у рябины. В частом, тяжелом дыхании явственно угадывались мята и чабрец. Гаваль утонул в этом облаке травяных ароматов, растворился полностью, чувствуя, как берет верх животное начало, жаждущее страсти, удовольствий, но более всего — тепла и отвлечения. Последней сколь-нибудь вменяемой мыслью Гаваля было: никогда мы не чувствуем себя столь вещественными, живыми, как в момент опасности, а также возможного зачатия новой жизни.
А после исчезли заботы и страхи, не стало деревни, идущих неведомо где бандитов, тревог и опасений. Даже само время растворилось, утратило смысл в объятиях обычной сельской девушки, чье имя Гаваль так и не догадался спросить (пока это имело хоть какое-то значение).
Над деревней разнесся громогласный вопль, больше похожий на завывание демонов ледяного ада:
Холод и зной, бедность и труд,
Голод терпят, от жажды мрут,
Грабят, насилуют, жгут —
Вот как военные люди живут!
Очевидно проснулся этот… как там его… Дьедонне, кажется. Судя по голосу, наемный барон пришел в себя очень бодрым, готовым к действию. И дурной вопль дернул Гаваля из почти медитативного полузабытья, будто из прогретой солнцем воды маленького чистого озерца.
Юноша лежал, чувствуя, как впилась в ягодицу торчащая ость из набивки тюфяка. Ощущение было неприятным настолько, чтобы досаждать, но при этом не настолько, чтобы предпринимать какие-то действия. Как жужжание комара в полусне. Правый бок менестреля грело живое тепло, с избытком уравновешивая колотье набивки. Гавалю хотелось, чтобы состояние расслабленной дремы не заканчивалось, чтобы всегда было так спокойно, темно, умиротворенно. Чтобы мир за тонкими стенами оставался где-то вдалеке и не вторгался в «здесь», «сейчас». Сердце все еще билось часто, резко, кровь струилась по жилам, будто весенняя река, питаемая талыми водами.
Но… все хорошее заканчивается.
Девушка повернулась, ее тонкая рука легла юноше на грудь. Шершавая, загрубевшая от работы ладонь царапнула ребра, и Гаваль вздрогнул.
— Вы нас и в самом деле не бросите?
Тихий голос возникал, будто сам собой, рождался из полутьмы, наполненной запахами тюфячного сена, свежего пота, аптечных трав, сгоревшей свечи, углей, положенных накануне в жестяную грелку.
Дочь костоправа, вспомнил Гаваль ни к селу, ни к городу. Точно, он видел конопатую девчонку рядом с горбуном, что лечил и животных, и скотину в Чернухе. Отсюда, наверное, и аптекарские запахи — дочь помогает отцу, собирает всякое для отваров и микстур. Или на селе микстурами не пользуются?..