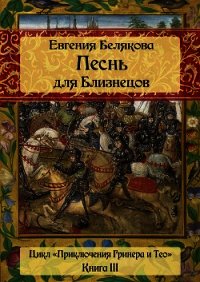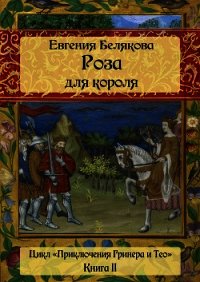Король-Бродяга (День дурака, час шута) (СИ) - Белякова Евгения Петровна (мир книг TXT) 📗
— Где Пухлик? Фасмик Вальгенше? Мик?
— Ыны-наю! — скривился Лу. Мой крик, видимо, похмельно-погребальным звоном отозвался у него в ушах.
Ну ничего, голубчик, сейчас он тебя до самого копчика проберет.
— Где! Вы! Его! Оставили! Где вы были? Куда ходили? Где он?
— Арад… ная Л-л-летка!
— Что?
Стражник, с любопытством наблюдавший сию сцену, кашлянул и усмехнулся в усы:
— Сударь студент, он имеет в виду 'Развратную селедку'. Бордель в восточной части города, у рынка торговцев коврами.
Я отпустил уши Лу, и он кулем свалился на землю. Перед тем, как сбежать в город, я умоляюще прошептал стражнику:
— Придержите ворота, я приведу его. Придержите!
— Правилами это запрещено, — тут же перестал усмехаться он, — и как только вывесят полдень, я закрою ворота.
Я коротко кивнул и понесся по мощеной цветным камнем улочке вниз по склону (Академия стояла на холме), чуть ли не падая. Фокус был в том, чтобы добраться до восточной, противоположной части города за час. Плюс время на поиски там. И час — а то и полтора, учитывая пьяного товарища, — назад. Невозможно. И за эту-то невозможность я и готов был порвать Пухлика напополам. Но бег трусцой, изнуряющий вдвойне оттого, что я перепил сегодня ночью, смыл начисто все эмоции. Осталась только усталость — я влетел в селедочный бордель на последнем издыхании.
— Черт подери, — со свистом в горле заявил я 'встречающей у врат блаженства' проститутке, — я слишком стар для такого!
Девочка, разукрашенная, вся в цепочках, браслетах и шелках, недоуменно похлопала ресницами. И только тут я понял, что говорю на родном языке. Я стал, опершись рукой о притолоку; цветные бусы, свисающие на нитях с дверного проема, щекотали лицо и затылок. Сейчас, я отдышусь… сейчас.
И тут меня слегка шибануло. Демоны дери, а ведь я действительно стар.
Минуту я потратил на восстановление дыхания и подсчет.
По всему выходило, что совсем недавно мне исполнилось шестьдесят лет.
Никакого почтенного старца — вместо того, чтобы сидеть у камина, гладя по головке внуков, изредка позволять им играть с моей короной и сетовать на молодежь, я ношусь, как угорелый, по борделям портового города, убиваю людей, схожу с ума и попираю святыни.
Расчудесный возраст!
Девочка тем временем, учуяв наживу, уже вовсю крутилась вокруг меня, гладя пальцами мои щеки. Малютка… ох, малютка…
— Милая, тут должен быть мужчина. Лет двадцати на вид, полный. И пьяный. И кретин, каких свет не видывал — не замечала таких?
Эта нежная серна продажной любви кивнула.
— Да, господин, он лежит в комнате у Зикки. Вас проводить?
Я отодвинул тяжелые занавеси, скрывавшие душную, заваленную подушками комнату. У медного зеркала прихорашивалась красавица лет тридцати; напевая, она расчесывала волосы и не заметила моего появления. Зато я сразу заметил сваленного в углу Пухлика. Растрепанный, залюбленный до обморока, он храпел, почти заглушая пение щедрой своей любовницы. Подозреваю, что первой.
— Фасмик! — я отодрал его от стены и встряхнул, — очнись! Сейчас же!
Он промычал что-то невнятное. Я скрипнул зубами и прошипел:
— Н'хагаш!
Красотка у зеркала оживилась:
— О, я, кажется, слышу знакомое ругательство! Так матерится Шенба, этот сладкий коротышка!
— Передавай ему привет, — раздраженно ответил я из-под пухликовой тушки, которую все-таки умудрился водрузить себе на плечи, — жаль, что мы не встретились, хоть он и обещал.
И тут из-под груды покрывал и подушек в центре комнаты высунулась до боли знакомая голова.
— Ба, приятель! Ты стоишь сейчас аккурат в той позе, когда удобно врезать тебе по яйцам! Но, вижу, ты спешишь — отложим до следующего раза?
Интересно, подумалось мне, я так же мерзок для окружающих, когда шучу? Видимо, да. Но я был не в состоянии сердиться на кого-либо. Я улыбнулся шлюхе, маленькому коку и со всей возможной поспешностью покинул это гостеприимное заведение.
Прыть моя значительно поубавилась, когда я взвалил на себя Мика; он же ни в какую не желал идти сам, валясь на бок при каждой попытке принять вертикальное, естественное положение. Так что я не стал тратить время на невозможное, и просто потащил его к Академии.
Пыхтя и обливаясь потом, я подобрался почти к самым воротам, когда мне вдруг пришло в голову глянуть на башню. Маленькая фигурка наверху как раз устанавливала красный флаг.
Полдень.
— Пы-вы-агр! — рыгнул мне в ухо Пухлик, в котором стены родной Академии, видимо, разбудили некое подобие сознания.
Я поднажал. Осьминог качался предо мной, посмеиваясь и шевеля щупальцами. Подмывало все (а именно, Пухлика) бросить, но мое чертово упрямство опять дало о себе знать. В самую последнюю секунду, когда стражник, удручающе качая головой, прикрывал створки ворот, я поставил Мика на ноги и изо всех сил пнул его, так, что он пролетел эти конечные несколько локтей, как стрела. И скользнул в ворота, словно маслом намазанный. Я же с удивлением наблюдал, как половинки осьминога сходятся вместе; раздался звук 'бом-м-м', и они плотно сомкнулись.
Вот и думайте, кто кретин в этой ситуации. Осьминог? Хотелось бы, но это не так.
Я присел на корточки у стены, окружавшей Академию и ощутил, как ноги буквально отваливаются. Да и руки тоже.
Шестьдесят лет, подумать только. И что я сделал в своей жизни? Уничтожил несколько стран, пойдя на них войной? Спас человечество? Да, я написал пару вполне приличных пьес. И все? В голове у меня копошились горькие и мелкие мысли. И еще я здорово злился на Мика, до кипения крови, но сил ругаться не было.
Некоторое время спустя я еще сидел под стеной, размышляя о бренности всего окружающего мира. Так никуда и не ушел, и это было хорошо, потому что вскоре я почувствовал затылком взгляд.
Я поднял голову и увидел Аффара, висевшего между зубцов стены. Он торчал наружу почти до половины своего коротенького тельца, и мирно улыбался.
— Я выяснил, что водяные часы сломались, и смотритель вывесил красный флаг на десять минут раньше, чем следовало. — Он трагически изломал брови и покачал головой. — Я нижайше прошу прощения за эту ошибку, и надеюсь, что смогу искупить когда-нибудь свою вину. Была допущена прискорбная халатность. Каюсь, каюсь…
Повисла странная, приторная пауза.
Не дождавшись от меня положенного в такой ситуации вежливого ответа, Глава Кафедры раздраженно прикрикнул:
— Джок, я уже сказал вам все, что следовало. Не изображайте оскорбленного и униженного, это вам не к лицу. Идите обратно, сюда.
Я поднялся с корточек и прищурился на него.
— Скажите, Аффар — как вы забрались наверх?
С такой высоты лица его было толком не разглядеть, но мне показалось, что я увидел намек на немедленное смертоубийство в его глазах. И на то, что оно может произойти прямо здесь, если я не закрою рот.
— Я стою на приставной лестнице. — Со вздохом, больше похожим на рык, признался он. — Теперь вы идете?
— О, да.
Я величаво вплыл в приоткрытые ворота. Как король, возвращающийся с триумфом с войны; как виртуозный актер, сорвавший аплодисменты тысяч людей. С высоко поднятой головой. Стараясь упрятать стыд поглубже. Подумать только, до чего я докатился — жертвую собой ради пьяного полудурка, считающего себя моим другом… И что самое страшное — получаю за это поблажки!
Неделю я не разговаривал с Пухликом; как тот ни унижался, как ни умолял слезно, я хранил ледяное молчание. И даже больше, чем ледяное — кристальное. Стальное.
Ровно неделю. До тех пор, пока не узнал, что водяные часы действительно сломались.
Тогда я обозвал свое отражение в зеркале старым, чванливым идиотом, дал ему по роже и пошел мириться с Пухликом.
Другом.
Мы снова стали общаться, как и раньше, и даже ближе, чем раньше. Он не вспоминал о том случае, когда я спас его от отчисления, а я был благодарен ему за то, что он не обижался на меня за мое дурацкое молчание.