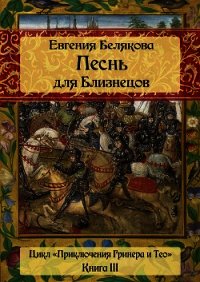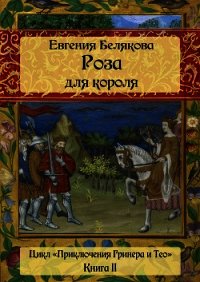Король-Бродяга (День дурака, час шута) (СИ) - Белякова Евгения Петровна (мир книг TXT) 📗
О, да, прошло то время, когда я считал публикой всех тех, кто хоть глазком поглядел на мое выступление. Как же неразборчив я был — во всем. В людях, окружающих меня, временах года, любимой пище, принципах… Но к тому времени, как минул год с Проклятия Богов, я стал тщательнее отбирать тех, или то, что стоит занести в мою картину мира. Рамка была не такой уж и большой, но это и к лучшему — лица, события и города ложились поверх старых, полностью скрывая их под собой. Так гораздо экономнее, и удобнее, чем когда стараешься раздвинуть рамки до бесконечности, втискивая маленькие фигурки между другими, полузабытыми. От этого случается путаница.
Так что я тогда с удивлением обнаружил, что маг Асурро — один из немногих, кого я хотел бы видеть на моей картине почти в полный рост, так сказать. Еще там были: Пухлик, всеядный во всех смыслах; саркофаг с субстанцией, упокоившей старого Ньелля, старик Кун, обучавший меня некромантии. Еще, пожалуй, сверчки. Мрачновато? Предыдущие образы, скрытые за блеском колбочек и реторт, книжными страницами и скудным набором лиц, были гораздо страшнее.
Первые каникулы вписали в мой старый холст двух людей: капитана Ганвара и узкоглазого карлика Шенбу.
Экзамен вытряс остатки благоразумия из студентов и они, воспаленные предвкушением, выпали в город из главных ворот, рассыпались по переулкам; каждый думал, что знает, где надо проводить этот долгожданный первый вечер на свободе. Я втиснул Пухлика в какую-то более-менее отражающую действительность компанию и отправился своей дорогой. Когда нас приняли, то всем дали одинаковую одежду, робы с изображением осьминога на груди, вышитого синими нитками, учителя носят похожие, с той лишь разницей, что осьминог на их мантиях — белый. Сейчас же я нарядился в свое старое шмотье, одолженное у врача без слуг, и чувствовал себя в городе, как рыба в воде. О, вот оно! Мне не хватало моря, вот что я понял; и всего через полчаса оно приняло меня в объятия своих запахов. Район порта — опасный, чарующий и грязный. Улочки, бесконечно тянущиеся, вечно пытающиеся укусить себя за хвост, бродячие собаки вперемешку с моряками, валяющимися по канавам (пьяными или с ножом в боку), и деготь, залезающий в нос при каждом вдохе.
Я поболтался у причалов, послушал скрип кораблей, и завернул в первую попавшуюся забегаловку. Меню — вареная рыба, жареная рыба, драки и крики. Я заказал тушеных кальмаров, приятное разнообразие, и стал слушать разговоры, жадно впитывая грубую, острую, сливающуюся с прибоем речь низов. Как оказалось, у этого заведения была даже своя программа — к полночи на столик в середине зала влез карлик, размахивая круглой шапочкой с султаном из конского волоса.
— Внимания я требую, сучьи дети, отродья медуз!
Я, уже изрядно набравшийся, прислушался к его странно монотонно-резкому голосу, завораживающему, властному. Шум вокруг утих; карлик продолжал, водрузив шапочку на абсолютно лысую голову:
— Послушать вам придется, чресла, о! — мои слова! Мою чрезсмертную поэму о страшных событиях, историю, от которой в стылах жинет кровь! О том, как в прошлом годе случились кары, небесные и прочие — жрецы выли, ныли, мыли и плыли! И никто не знал, когда закончится эта кара, мара, шара!
От изумления я даже протрезвел. Этот коротышка, сам того не зная, поимел мое восхищение по полной: великий оратор, он играл вниманием людей, легко заставляя их благоговейно внимать себе, как пророку, между тем как сам нес откровенную чушь. Но тон, тембр, интонации — о, я чуть было не застонал от удовольствия, одновременно ощутив холодную дрожь, сбежавшую от затылка к копчику. Самое ужасное и удивительное заключалось в том, что тему он выбрал страшную, наболевшую, жуткую. И распинал ее сейчас о лбы притихших людей, раздирая на клочки и собирая снова. Негодяй и позер, сквернослов — я не мог им не восхищаться. Мастер, мастер! Подавив желание зааплодировать, я продолжил слушать дальше, уже почти готовый признаться в любви этому шибздику с узкими, жадными до внимания глазами. Еще через пять минут я все свои силы положил на то, чтобы не сползти под стол, скрючившись от смеха; однако люди вокруг воспринимали речь карлика как некое откровение — и это была сила звуков, издаваемых его хрустальным, нежноголосым и сильным горлом. Мне стало интересно, все ли в таверне послушны этой маленькой флейте на ножках; и я стал осторожно скользить взглядом по посетителям, потно и чувственно внимавшим карлику. Пара проституток, их сутенер, матросы с кораблей, торговцы соленой рыбкой, воры и грабители… Все они вздымались грудью, когда его пятерня взлетала вверх, на пару с тоном; и шумно выдыхали спертый воздух, когда он понижал голос, страшно округляя глаза. И лишь в темноте угла, куда я поначалу не удосужился заглянуть, не было отклика на речь этого гения. Из тени высовывались сапоги с узкими носами, чуть задранными кверху. Оттуда же несся запах хорошего, дорогого табака, вина и беззвучный смех. Я подхватил свой кувшин с белой настойкой (жаль, не догадался заказать что-нибудь подороже, было немного стыдно подсаживаться с таким пойлом) и аккуратно, стараясь не потревожить толпу, пробрался к заинтересовавшему меня столику. Его хозяин даже не повернул в мою сторону головы — он смотрел на карлика. Лицо его скрывала шляпа с широкими и низко опущенными полями, но я услышал восхищенное причмокивание и понял, что не ошибся.
Умостившись на стул, я лукаво посмотрел на импровизированную сцену, где представление уже подходило к концу, и непринужденно заметил:
— Он великолепен.
Незнакомец за столиком двумя пальцами приподнял край шляпы, и, мелькнув озорной улыбкой на узком лице с холеной бородкой, произнес:
— Ш-ш-ш-ш…
И я был с ним полностью согласен. Этот номер следовало дослушать до конца. Зрители, загипнотизированные голосом карлика, кивали в такт его словам, а он нес уже совершеннейшую белиберду:
— Разверзлись, злись, и не трудись! Повернись, и впереди пусть! Ничего-о-о-о!
— О-о-о-о… — протянула за ним толпа.
Маленький засранец, как ни в чем не бывало, спрыгнул со стола и направился к столику, за которым я имел честь просиживать самое дорогое, что у меня осталось. Я не слишком удивился: что-то было общее у этих двоих, словно некая невидимая нить. Карлик, не обращая на меня ни малейшего внимания, резво вскочил на стул, уселся и придвинул к себе мой кувшин. Вблизи я разглядел его хорошо — умное, сморщенное лицо, черные бусинки глаз, как у птички, и обветренная кожа.
— Ган, продул ты пари. Я же говорил тебе, что смогу. Хочешь, они дышать перестанут?
Таверна тем временем, непривычно тихая, стала понемногу терять клиентов. Люди задумчиво и вдохновенно выливались на улицу, неся в лицах свет и отсутствие всякого сомнения в смысле жизни.
Карлик покосился на меня и подозрительно сощурился:
— Ган, а почему он не в рыбообразном состоянии? Он что, глухой? — и зачем-то помахал ладонью у моего лица.
Вместо ответа я побарабанил пальцами по столу и звучно пропел несколько строк из военного марша, сочиненного мной для одной патриотической пьесы много (а много ли?) лет назад. Результат не заставил себя ждать — последняя пара, протискивающаяся в двери — два моряка, обнявшиеся в пьяном угаре, — воодушевлено завопили: 'Да, вперед!' и ринулись во тьму и ночь, полные неуместной отваги. И это при том, что языка, на котором я декламировал, они не знали.
— Он не глухой! — Заорал карлик, размахивая кувшином чуть ли не больше себя самого. — Он — конкурент!
Я улыбнулся и развел руками.
— Ган! Ты решил меня подставить?
Незнакомец в шляпе засмеялся.
— Что ты, Шен, и в мыслях не было; этого человека я вижу первый раз в жизни. Кстати… — он приподнял поля, опять таки двумя пальцами, — мое имя — Ганвар Росса, капитан помойного суденышка под названием 'Ласточка'.
Я успел заметить татуировку на нижней губе капитана — три точки.
— А я — его кок! — встрял карлик, — а ты кто такой, горбатый незнакомец?
Я представился: вскочил и подмел пол воображаемыми перьями на воображаемой же шляпе.