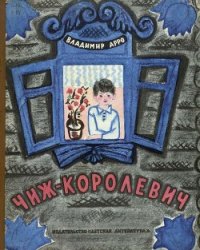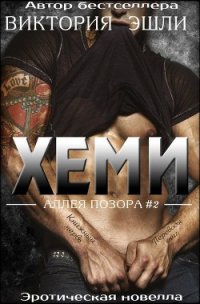Вечный Грюнвальд (ЛП) - Твардох Щепан (читать хорошую книгу .txt) 📗
В номер постучал бой; он спросил, не привести ли мне кого-нибудь для компании, я отказался. Я размышлял о своей матери, о тех мужчинах, которые ей платили, и сам не мог, не хотел, хотя желание женщины было страшным. Я пробовал молиться, но тоже не получалось, так что я отправился спать.
Кёнигссег вернулся утром следующего дня и приказал мне собираться, так что я забрал свой вещмешок, старый шмайссер и папку для докладов. Перед гостиницей ожидал открытый джип. Ствол смонтированного перед пассажиром пулемета упирался в капот.
— Садись, — скомандовал он, иногда мой спутник обращался ко мне по-польски. — Поехали, ты за руль.
Я послушно устроился за рулем, свой автомат положил так, чтобы до него легко было дотянуться. Вся задняя часть автомобиля была заставлена канистрами с бензином. Перед нами дальняя дорога.
Мы проехали через город, по улицам, непроезжим для обычных автомобилей, так как там было полно ям и жидкой грязи, по дорогам, на которых любой лимузин давно бы сорвал подвеску. Заплатили два доллара за проезд по временному понтонному мосту — царские мосты взорвали поляки еще в тысяча девятьсот двадцатом году, советские мосты взорвали немцы в тысяча девятьсот сорок первом — после чего поехали через опустевшие кварталы на левом берегу Днепра, направляясь на северо-восток, на Воронеж.
Когда мы проезжали укомплектованные милиционерами пикеты на рогатках сожженного города, офицер в американском мундире пытался нас остановить, обещая сопровождение, на что Кёнигсегг заявил ему, что туда, куда мы едем, никакое сопровождение не поедет. Офицер постучал себя пальцем по лбу, милиционеры — мрачные и усталые — совершенно не реагировали.
И мы поехали.
В папке у меня имеется стихотворение Рильке: Reiten, reiten, reiten, durch den Tag, durch die Nacht, durch den Tag. Reiten, reiten, reiten. Und der Mut ist so müde geworden und die Sehnsucht so grosse [75]. Джипом, джипом, джипом, днем и ночью, ночью и днем; джипом, джипом, джипом, отвага давно уже ослабела, зато тоска сделалась громадной.
И я знаю, что ничего это не означает, стихотворение ничего не означает, все стихи мира, которые знает ВсеПашко, из которого я все высасываю, ничего не означают перед лицом того, что в собственном истинном в-миру-пребывании я не достиг своей истинной Дхармы. Не послушал я Кришны, как послушал его Арджуна.
А Кёнигсеггу мои мысли известны, не ведаю, знал ли уже тогда, не известно мне, когда было, а скорее, когда было это "тогда", ибо ведь все жизни ВсеПашко проживаются параллельно, происходят параллельно, и я их не распутываю.
То есть, Кёнигсеггу мои мысли известны, когда он сидит рядом со мной в виллисе, глядя глазом, разделенным прицелом пулемета, на сожженные хаты, мимо которых мы проезжаем, уже зарастающие ольшиной и тополями.
Так что мы едем. Днем и ночью. Кёнигсегг не разрешает останавливаться на привалы; во время остановки нам более всего грозит опасность, так что останавливаемся мы только для того, чтобы перелить бензин из канистр в бак.
Дважды мы убегаем от вооруженных бандитов, неоднократно видим группы конников, которые приглядываются к нашему виллису с холмов и быстро исчезают в рощах; а потом проезжаем мимо буддийского обо [76] из серых пустотелых и обычных кирпичей, украшенного синими лентами и человеческим черепом, и мы знаем: это уже территории, контролируемые Орденом.
Через два часа первый пост. Когда мы подъезжаем, оживает башенка бронеавтомобиля, оживают стволы пулеметов в гнездах, укрепленных мешками с песком, маленькие твердыни с жалами в защитных кожухах из перфорированного металла. Останавливаемся в пятидесяти метрах перед шлагбаумом, высаживаемся из виллиса, поднимаем руки вверх и подходим.
Из-за шлагбаума к нам выходит офицер в дэли — длинном монгольском халате, зато обогащенном российскими погонами, скрепленном поясом с портупеей. Знаки отличия прапорщика, на груди серого одеяния вышита черная свастика с короткими заломами лучей, поворачивающимися по часовой стрелке.
Офицер просматривает наши документы, чешет светлую бороду, наконец разрешает нам ехать. Солдаты весьма азиатского вида, наверняка буряты, отодвигают шлагбаум, мы проезжаем; сценарий повторяется точно таким же образом еще четыре раза, вот только на постах каждый раз все больше народу, последний вообще охраняется двумя окопанными танками, старыми, германского производства, над землей выступают только плоские башни и стволы с могучими рожами выпускных устройств.
Едем дальше. Кёнигсегг в течение всего пути не обронил ни слова, только пара коротких приказов, а приказ — это не слово, я же все время был за рулем; когда мой товарищ и преследователь заметил, что я готов заснуть за рулем, он подал мне две белые таблетки, которые я глотнул, не колеблясь, и тут же обрел силы и трезвость мыслей. Но теперь наркотики и отсутствие сна привели к тому, что мир кажется мне странным, темным, непонятным.
Мы проезжали мимо лагеря военнопленных: это были два гектара почвы, окруженной полосой минного поля, перерезанной посредине высокой оградой: колючая проволока под напряжением, две высокие сторожевые башни. А посредине — ничего, если не считать фигур, людских теней, лежащих, шатающихся стоя, сидящих, огороженных словно скотина на бесплодном пастбище. Несмотря на рев двигателя, я слышал их стоны и плач, и то не был какой-либо из человеческих языков, и я видел на них обрывки всех мундиров гражданской войны, и импровизированные палатки из одеял, землянки, мелкие углубления, выцарапанные в твердой, сухой земле и прикрытые одеялами, и ползающие по ним мягкие белые круги, отбрасываемые прожекторами. Ехали мы медленно, так что у меня было время приглядеться к тянущемуся вдоль дороги лагерю, и я видел, как солдаты в серых дэли со свастикой запускали вовнутрь новых пленных, и видел, как тут же на них набрасываются старшие обитатели, словно туча воробьев на сухую корку, и как бьют новичков кулаками, ножами и палками, как сдирают с них все: мундиры, обувь, все предметы, и как новые пленные — это те, что выжили — стоят под заходящим октябрьским солнцем голые, избитые, кровоточащие, словно бы новорожденные, некоторые заново мертвые, словно бы их человечность была поддана повторному определению, сейчас нет у них ни имен, ни чинов, у них имеются только лишь кулаки и зубы, ноги и сало на животах, которое позволит им пожить подольше, но может и мешать в драке.
И так же, как они, смотрели жмудинские женщины — и детки, и молодки, все ободранные от одежды, женщины, полоненные пруссами моими, когда напал есмь на жмудинское село в первом своем рейде: мужчин то мы убили, остальных же забрали в отрочество; и такова вот была война, заезжали на Жмудь, одним или парой братьев, парочкой рыцарей, что в гостях были и наемными стрельцами, вместе с легковооруженными пруссами; и жмудины точно так же на нашу Пруссию наезжали, сжигая и грабя, и беря в отрочество; и поляки наезжали на нас и на Жмудь, и на Литву, когда еще поляки с Литвой воевали, такая оно была война. И всегда те же самые взгляды, брал ли я в отрочество поморян, пруссов, махуров, жмудинов, русов — всегда одни и те же глаза.
Ну а теперь загон для пленных уже позади, мы приближались к месту жительства великого магистра. Въезжаем под противовоздушные маскировочные сетки, растянутые на высоких шестах; всю территорию они прикрывают словно саван, снизу же на них мы видим совершенно иной мир: поля, дороги, которых нет, и рощи, прикрывающие бункеры с бараками. Под сеткой же дремлют зенитки, полный набор, вижу немецкие acht coma acht, советские тяжелые пушки, легкие бофорсы и эрликоны, соединенные попарно и по четверо.
Они дремлют, потому что давно уже не летают здесь самолеты, по крайней мере, не такие, которые были бы способны угрожать бункеру, возле которого Кёнигсегг ставит виллис.
Бетон бункера, и в нем, словно окаменелости в угольном пласте, отпечатаны слои досок опалубки, и еще отпечатаны буквы: Orden der Brüder das Dharma, и короткопалая, направленная по часовой стрелке свастика. Посредине могучие стальные двери, по обеим ее сторонам расположенные ступенчато глазницы бойниц и зрачки стволов.