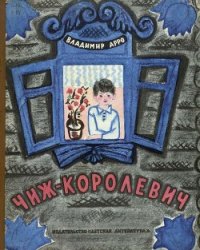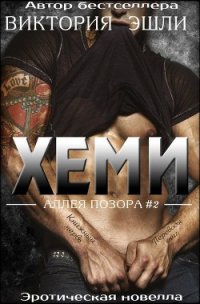Вечный Грюнвальд (ЛП) - Твардох Щепан (читать хорошую книгу .txt) 📗
И взял я копье, и отправился за Иоахимом Венгерским, а он вошел в кресло у пульта над книгой и вписался в это кресло, и ажурная конструкция кресла открывала то место, место ниже шишки; я же держал копье крепко в руках и знал — следует лишь сильно ударить, чтобы пробить толстую экзодерму наконечником моего копья.
Но вместо того, чтобы ударить, я откладываю копье, падаю на колени и плачу. Иоахим Венгерский отключается от кресла возле пульта, шагает ко мне, склоняется надо мной, касается длинными пальцами моих слез, гладит мои волосы, после чего молится Матери Польше: забери его к себе, о Госпожа, прижми его к лону своему.
И как раз это и происходит: Мать Польша пахнет приказом, а я и желаю, и не желаю отправляться в усадьбу, мой писюн делается жестким, впервые в жизни, и я выхожу из библиотеки и иду с этим своим вставшим писюном, пахнут приказы, указующие мне дорогу, так что я следую им, иду двадцать семь часов без отдыха по золотым полям и зеленым рощам, прохожу мимо десятков белых усадеб и тысяч верб, только это не здесь, еще не тут; и я иду, прохожу мимо таких же, как я, которые куда-то идут: на фронт, это вооруженные аантропы, или же на работу, точно такие же, как я, все поодиночке, всегда самостоятельно, но никогда не одинокие, поскольку всегда с Матерью Польшей, идут, казалось бы, без какого-либо порядка, напрямик, через поля, потому что на Матери Польше нет дорог, ибо дороги не нужны, дороги — они немецкие, дороги — они вражеские, мы движемся напрямик, кратчайшим путем к цели, как ведет нас приказ Матери Польши, и идешь так, как пахнет приказ; пахнут, конечно, и приказы других личностей. Но то чужие запахи, мутные, я их не понимаю; для каждого у Матери Польши имеется отдельный приказ, с отдельным ароматом.
И вот, наконец, я уже вижу свою усадьбу, деревянную, на каменном фундаменте, побеленную, в которой раскроется передо мной лоно Матери Польши; я открываю двери и вхожу, и пью из груди, лаская мягкую белуую плоть, окружающую коричневый сосок, а потом Мать Польша пахнет: пора. И из салона я отправляюсь в спальню, а там ожидает меня Она, Мать Польша; меня раздевают ее длиннопалые руки, подают одна другой части моей одежды, теперь они послужат кому-нибудь другому, мне они уже не нужны.
Так сильно пахнет Приказ.
Я ложусь на обильных белых складках, впихиваю их в себя, вставляю свой торчащий отросток в красное, влажное отверстие, тело Матери Польши окружает меня, обрастает, обматывает. Оно разделяет мне губы, осторожно раскрывает мои челюсти и впихивается в рот, заполняет его, весь нос, проникает в анальное отверстие, окружает меня снаружи и заполняет изнутри, и из чресл, из торчащего писюна, который — и я это знаю — уже никакой не писюн, что раньше служил только лишь для того, чтобы отлить, а теперь сделался корешком, корнем, хером, и вот от хера проходит по всему телу судорога, и нарастает, экспоненциально нарастает, я же напрягаюсь, уже весь замкнутый в ее теле, растягиваюсь в наслаждении, и уже не знаю, где мое тело, не знаю уже, где нахожусь, не знаю, что собой представляю, не знаю, существую ли вообще, не знаю — существует лишь судорога, наслаждение, словно сжигающее все и вся сияние лика Божия. Вечность в вечности, извечность.
И так я и пребываю, вечность пребывания, симулированная в симулированной вечности, во все времена, навсегда и навечно — Я, я, я, ВсеЯ, маленький ВсеПашко во ВсеПольше, спрятавшийся в огромном ВсеПашко в извечном умирании, вечность в вечности, извечно.
Все же в истинном в-миру-пребывании нажал я на спуск самострела, высвобождая тетиву, и помчался болт к Пелке. Боялся я, но нажал.
Воля моя дрожала, и пальцы мои дрожали, но я нажал. Было это в воскресенье. Пелка вышел из своего деревянного дома перед флорианским рынком, я же, за углом притаившись, нацелился, прижав самострел к щеке и нажал есмь на спуск.
И болт, тонкой тетивой выпущенный, летел весьма точно, и вонзился в грудь Пелки прямо по оперение, и Плка поначалу какое-то мгновение стоял, затем тяжело опустился по стене и пока что еще дышал.
Он еще дышал, когда я к нему подошел. Среди бела дня, людей много было, а я ничего не опасался, ничего я не боялся, черные боги хранили меня, Дзив Пацерж с десницы моей, Перун с шуйцы моей, и подошел я к Пелке, а он глядел на меня, старый, седой, выцветшими глазами, из которых уходила жизнь, глядел на меня и — показалось — понимал. И кровь сильно лилась.
Тогда из мешка, что висел у меня на поясе, вынул я ножичек, которым Твожиянека убил есмь, и вонзил его есмь прямо Пелке в горло, прибавив слова оскорбляющие:
— Нна, нудила!
И умер Пелка, я же отступил от него с ножиком в руке. Индра Дыяус Пита со стороны десницы и шуйцы моей, защищают меня от злых людских взглядов. Отошел я, побежал, сбежал. То ли черные боги меня хранили, то ли нечто иное деялось, не могу отделить, возможно, никого поблизости и не было, а может все боялись и в другую сторону глядели — не отделяю того.
И вслушивался я в себя: стекает ли, сходит ли с меня знамение бастерта? Становлюсь ли я человеком; проклевывается ли новый человек из людского отброса, которым был я до того?
А потом я увидел рыцаря.
Ехал он на сивом пальфрее, не слишком-то элегантно развалившись в седле, а одет он был в кафтан, но без оружия, на алом кафтане белый лебедь. Пояса на нем не было, так что, наверняка, не был он опоясанным, но никаких сомнений у меня не было: был он рыцарем, все это было видно в его небрежной посадке в седле, и в гладко выбритой челюсти, в завитых локонах, и в том, как держал он поводья, как опирал правую руку о бедро. На мир глядел он взглядом, в котором одновременно присутствовали и скромность, и гордость, гордость по праву, гордость, но не гордыня, являющаяся результатом полноты и отваги. Весь он был мужским, солярным, активным; он владел собственным миром. И принадлежал он Богу Отцу, богу дня, Зевсу, светлому небесному своду. Он знал, как заговорить с дамой и как владеть мечом с коня; знал как галантно выиграть и проиграть — все это вычитал из его позы. Он знал, как держать речь и как привстать на колено в церкви, умел петь рыцарские романсы и аккомпанировать себе на лютне. Знал он, как быть щедрым как требовать денег и подарков; знал, как быть галантным и как быть наглым — и не только знал, он таким и был. Точно так же, как были все его последователи — кавалеры при рапирах и шпагах, кладущие голову на гильотину; и наполеоновские офицеры, верхом въезжающие во дворцы и рубящиеся кавалерийскими саблями в поединках, в одно и то же время, за все и за ничего; и английские офицеры из Легкой Бригады, те самые, затеявшие истинную атаку, и те, что из стихотворения Теннисона; и Оскар Уайльд, и Дориан Грей, и поручик Стурм, и Анджей Тжебиньский, и Кмитиц [72].
Я же был хтоничным, земным, от женского, материнского начала, пассивным, я был Змеей, это мир мною двигал, а не я миром. И понял я, глядя на красавчика-рыцаря: ничто не изменилось, ничто не вырастет из этой смерти, ничто не поменяется, и я не изменюсь.
А когда вернулся я в свою комнату, брат фон Кёнигсегг уже ожидал меня и смеялся. Я и его тоже хотел убить, но ведь не мог, не было такой возможности, а он смеялся, чуть ли не лопался, бил себя ладонями по бедрам, пытался даже что-то сказать, только тот безумный смех мешал ему, не позволял выдавить из себя ни слова.
Я же выпустил из пальцев окровавленный ножичек, только сейчас; выходит, я всю дорогу шел с этим ножом в руке. И не знал, что теперь будет, что случится, но снова и снова понимал я величину моего поражения и напрасность всех намерений своих, пустоту стараний, а смех махлера Вшеслава был миром: он был тем миром, что дергает меня, что играет со мной будто кот с парализованной от страха мышью, трогает меня мир смехом Вшеслава, издевается надо мной, презирает меня, людской навоз, людскую скотину, отбросом людским, который представил себе, выдумал, что может быть кем-то другим, что может вывернуться наизнанку, как выворачивают наизнанку мех, в котором вода сделалась затхлой — и вычистить, и высушить на солнце, и наполнить новой, благородной, чистой водой.