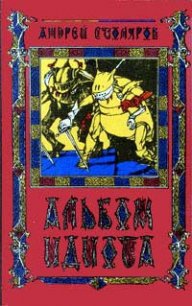Альбом для марок - Сергеев Андрей Яковлевич (читать книги онлайн бесплатно серию книг .TXT, .FB2) 📗
– Я же гипертоник!
– Разве я человек? Я полчеловека…
С утра голова стянута мокрым полотенцем:
– Эх, башка-башка, от поганого горшка…
На бабушкину долю пришлось учить меня уму-разуму. Она объясняла мне историю и политику, ниспровергала кумиры:
– Усатый садист!
– Ленина спрашивают: – Владимир Ильич, что вы все руку в кармане держите? – Это я комячейку поддерживаю: член и два сочувствующих.
Бабушка же не дала мне кощунствовать, когда я начитался Комсомольской пасхи. Больше того – подарила мне на всю жизнь иконку Смоленской Божией Матери, где на обороте дощечки еле виделось карандашное: Ризу в память чудесного исцеления и число: не то 1841, не то 1871 года.
Учила подавать нищим:
– Просить труднее.
И – недаром маленький я во дворе сказал:
– Тебя одна мама родила, а меня – мама и бабушка!
Отношения с бабушкой я омрачил только однажды. В Закономерности Вирты понравилось выражение: Наш хлеб ешь! – я и ввернул. Плохо от этого было мне. Мама стыдила, бабушка сделала вид, что ничего не произошло, и продолжала меня, как маленького:
– Кушай, это последнее. Последнее – самое вкусное.
Я подвывал: – Конфетку бы мне завалящую…
Конфетка – не конфетка у бабушки всегда находилась.
Я решал, что отдал бы серебряный рубль с рабочим и крестьянином за одно яблоко, – и не подозревал, что яблоко тогда было дороже, намного.
Удельнинская полоумная жилица Варвара Михайловна приносит мне в подарок морковку: как зайке. Му́ка моральная: я не мог взять ценный подарок, зная, что сколько-то морковки у нас есть, и забился под стол.
Мука физическая: серая мышь Мегера – ею квартиру пять уплотнили в двадцатых – приволокла из МОЗО рицинус, касторовые бобы. Со скрипом отсыпала нам. Ей – хоть бы хны. Нас всех рвало. Назавтра бабушка через силу пошла на работу. Мама лежала пластом весь день. Меня мутило до лета.
Дед – рослый, работа физическая плюс нервное напряжение, на работу/обратно – пешком. Голод давался ему труднее всех. Красное лицо в оспинах становилось еще краснее, острые глаза от головной боли еще острее, бритый череп в стариковских пигментных пятнах. Ходил – пошатывался. Упал на улице. Привезли к бабушке, к Склифосовскому. Через месяц я бегал смотреть, как бабушка медленно ведет его на Большую Екатерининскую. Дед крепил алмазы на маршальских звездах и умер от алиментарной дистрофии после Сталинграда, почти на Пасху. При смерти повторял:
– Посмотреть бы, что дальше будет. Хоть одним глазком.
Мама/бабушка долго шушукались, как быть со мной: первый покойник в моей жизни.
Деда сожгли, урну оставили в общей могиле.
Бабушка мне объясняла, что после войны будет свобода торговли, и тогда все будет.
Ничего не было.
Посадили профессора Юдина. У Склифосовского объяснили:
– Арестован на аэродроме при попытке бежать в Америку.
Как всегда, бабушка не поверила.
Как она сдала! Помню ее всегда в движении, в заботе обо всех своих. На первых моих фотографиях – маленькая, сгорбленная, усталая.
Как она тянулась за мной, как следовала моим увлечениям! Джильи – Джильи. Вертинский – Вертинский. Бальмонт – Бальмонт. Футуризм – футуризм. Может, это прибавляло ей сил…
В пятидесятом году я узнал стихи Пастернака. Ни с мамой, ни с папой поделиться этим счастьем не мог. Подумал, что бабушке будет интересно – по воспоминаниям – и прочел ей Высокую болезнь:
Бабушка слушала, ожив, когда я кончил, задумалась:
– И как это он все верно подметил!
Умерла бабушка – от инфаркта – 17 октября 1951 года. Я в последний раз пришел в пять-опять. На длинном дубовом столе в тазу стоял остывший кувшин с молоком. Я витал во вгиковских эмпиреях и не пошел на похороны из-за пустой репетиции. Никто мне ничего не сказал.
Студентом снимавший на Большой Екатерининской из провинции написал маме:
…мы очень рады поэтому, что Вы здравствуете, рады так могут только радоваться люди о самых дорогих для них друзьях. И в самом деле, разве можно забыть Вас и такого исключительной душевной красоты и поэтической души Ирины Никитичны и вероятно в целом тяжелом ее переживании в жизни! И как обидно и глубоко несправедливо, когда уходят такие хорошие люди, как И. Н. одно присутствие которых и даже, что они где-то живы, существуют, скрашивает жизнь и побуждает Вас на все светлое и доброе! И о таких людях нельзя не вспомнить слово поэта – “не говори их больше нет, а с благодарностию – были!”
После смерти бабушки мама здравствовала, то есть держалась с полгода. В начале весны поднялась ночью – и упала назад, на свою раскладушку. Скорая помощь не приехала вовсе. Утром явилась тетя из поликлиники Стурцеля:
– Что случилось, больная?
– Да вот допрыгалась.
– Откуда прыгали?
Мама, сколько я помню, искренне полагала, что изнемогает от непосильных трудов:
– Яков меня батрачкой сделал. Я сначала прямʼ вся обревелась…
Труды заключались в уборке/готовке. По магазинам большей частью ходил папа. Теперь, когда мама слегла, придя с работы, папа готовил нормальный обед из первого и второго – как всегда, не мог угодить.
Долгая болезнь и медленное выздоровление,
мой уход из ВГИКа в ИН-ЯЗ,
переезд с Капельского на дальний Чапаевский,
моя бурная деятельность в ИН-ЯЗе и арест Черткова,
моя женитьба и уход из дому,
самоубийство Веры в лечебнице,
мой развод и вторая женитьба,
наконец, отдаленность и годы —
из-за всего этого Большая Екатерининская постепенно выветривалась из маминого сознания – как и общая могила старого крематория, где оказались дед и потом бабка. Мама жила просто и безмятежно.
Вот ее письмо из Удельной нам на отдых, в Апшуциемс:
Дорогие мои, не хотела писать, скоро увидимся, а все же думаю, будете беспокоиться, не зная о нас долго. У нас все по-прежнему спокойно, живем с переменной бодростью, по-стариковски. Наварила варенья из клубники, немного из вишни. В этом году вишни много, до вас еще довисит. Смородины красной и черной по ветке висит, совсем нет и очень дорогая на рынке – не покупала. Яблок много, но мелкие, как грецкие орехи. Будете есть, а хотите, варите варенье. У меня кончился песок и нет банок. Поругала немного Галю, забыла привезти банки с крышками, они остались у вас. Сварила немного малины. Успела как-то, а то всё дожди, и малина испортилась на корню. Кроме Слесаревой, у нас никого из Москвы не было. Видно, все устарели, и не под силу ездить на дачу. Андрейчик, когда будешь в Москве, спроси у Леночки, чего бы попить от склероза? Иногда пошатывает в сторону. Диоспонин перед отъездом я не нашла, чего еще не пила, и не знаю.
Писать некогда, папа идет на базар и торопит меня. Целый день кручусь, устаю, а сделано мало.
Спроси, нет ли настоящих шерстяных носок у твоей хозяйки. А то купить их трудно в Москве. На базаре у крестьян, только я не хожу. Папа не понимает. Еще раз целую крепко.