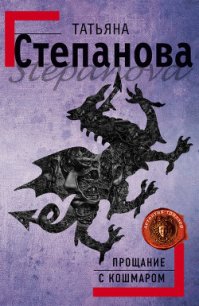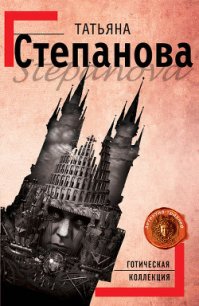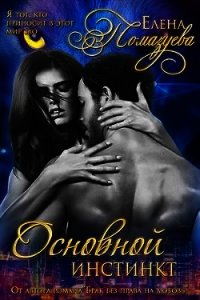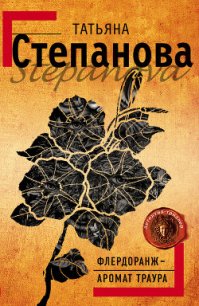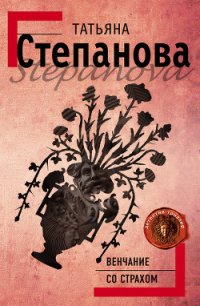Темный инстинкт - Степанова Татьяна Юрьевна (библиотека книг .TXT) 📗
– А ребенок? – спросил Кравченко, хотя он уже догадывался, как именно ответит ему его приятель.
– От ребенка просто отказались. Сдали в детский дом. Или, может, в интернат – что там в шестьдесят пятом было в Красково – надо уточнить. – Мещерский говорил все это каким-то тусклым безжизненным голосом. – Хотя, наверное, вряд ли теперь что узнаешь… столько лет прошло. Все уже умерли, состарились. Остались только сны – ночные кошмары – да… – Он вздохнул: – Наверное, мы так никогда и не узнаем, кто родился: мальчик или девочка. Если ребенок выжил, он наш ровесник, ребята. Сейчас ему было бы тридцать с небольшим.
Сидоров поднялся.
– Ну почему же, кое-что узнать всегда можно. Надо только приложить старание, докопаться до нужных людей, найти каналы. Вот что, братцы, пожалуй… Эх, ешкин корень, теперь новых объяснений с прокуратурой не минуешь! Но… но, может, это даже и лучше… лучше, что дело-то на контроле у самого в министерстве. Быстрей с информацией оборачиваться будут… В общем, я сейчас двину в прокуратуру, потолкуем с Пастуховым, он, хоть я на него и бочку качу порой, мужик-то толковый. Потом от его имени надо кой-куда факсы сбросить по-быстрому, ну чтобы все уточнили и… Так, а вы, – он оглядел музыкальный зал так, словно видел его впервые, – вы пока сидите тихо. И не суйтесь больше ни во что. Хотя я до сих пор не понимаю, какое отношение все это имеет к нашим делам, но… Информацию, ежели какая и поступит дельная, разжуем что твой «Стиморол».
– Серега, а что ты на это фото так странно смотришь? – Кравченко указал на портрет Оберона.
– Не знаю. Накрашена она здесь странно. Что-то знакомое… Ты ничего не видишь?
Кравченко подошел к стене.
– Нет. Зверева в парике. Прическа другая и моложе она здесь, Зверев же сказал.
– Да, молодая. Относительно. А знаешь, Вадя, я уже стал забывать ее лицо. Сутки всего прошли, а какая она была, я уже помню смутно, – Мещерский смотрел на снимки. – Остаются только эти вот фото.
Сидоров отбыл в прокуратуру, и время снова потянулось медленно и тоскливо. После ареста Новлянского никто в доме толком не знал, что же теперь делать: верить ли в то, что убийца наконец задержан, и вздохнуть с облегчением, или не верить, продолжая подозревать всех и вся.
На лицах домочадцев читалась растерянность, усталость, тревога и надежда. Все как-то бесцельно слонялись по дому – вроде копошились понемножку. Корсаков, например, успевший уже основательно приложиться к бутылке, теперь пил на кухне горячий чай с малиновым вареньем – тот самый, который заказывал себе Сидоров.
Файруз, окончив долгие переговоры с адвокатами, оставил в покое телефон и занялся тем, что начал старательно и неторопливо растапливать камин в зале. Затем включил и отопление на полную мощность – в доме становилось прохладно.
Александра Порфирьевна, сгорбившись и почти совершенно скрывшись в клубах сизого дыма (ее самокрутка чадила беспрестанно, а в пепельнице скучала уже целая горка окурков), перебирала к обеду рис.
Кравченко отправился к озеру. Так он сказал Мещерскому, но по глазам его было видно, что направляется-то он совершенно в иное место. (Как оказалось впоследствии, когда произошло ЭТО, Мещерский нашел приятеля там, где и предполагал, – возле колодца. Словно Кравченко неотвратимо привлекало к себе место, политое кровью Сопрано.)
А Мещерский не делал ничего – ни полезного, ни бесполезного. Ему все казалось: то важное из жизни Марины Ивановны, что только что стало им понятно, требует какого-то особенного осмысления. И он уединился на террасе, чтобы хорошенько обдумать осенившую его догадку. Но вместо этого, вопреки своей воле, стал вдруг вспоминать о том, как они с Кравченко приехали в этот дом, как она впервые встретила их – и на ней был розовый свитер и тот шарфик, будущий символ неизвестно какой демонстрации, по убеждению Кравченко. Как они говорили с Мариной Ивановной о музыке, о том, что классика рассказывает вещи, которые упрямо скрываешь даже от самого себя…
«И правда ведь оказалась – музыка Бизе столько всего напоминала Зверевой, что она просто ее избегала, не пела Кармен. Не пела… – размышлял Мещерский. – Интересно, а вот они с Андреем мечтали поставить «Дафну» Рихарда Штрауса. О чем же им обоим рассказывала эта вот музыка? Корсаков, помнится, говорил что-то об античном сюжете… Кончится все это, вернемся с Вадькой в Москву – обязательно пойду с Катей в Большой. Все равно на что – может, на Верди, может, на этого вот Штрауса Рихарда, о котором я ничегошеньки не знаю. Да, жаль, серость, бескультурье… А он ведь мне всегда теперь будет напоминать о том, что здесь с нами было… И жаль, что их семейный проект – Зверева и Шипов в Камерном театре, – накрылся. Корсаков так сожалел об этой «Дафне», говорил, что все надежды теперь возлагает на «Царя Эдипа». Если эту оперу Штрауса там поставят – обязательно достану билеты и тоже обязательно пойдем на нее с Катей. Потом видеозапись куплю. Будем слушать вечерами и вспоминать. Вспоминать все это…»
В дверях неслышно появилась Алиса. Мещерский смотрел на нее, и мысли его потекли уже в совершенно иное русло:
«Она совсем не похожа на Марину. Но ведь так и должно быть: она же не ее дочь…»
– Не беспокойтесь, если Петр не виноват, его скоро отпустят, – сказал он мягко. Надо же было что-то сказать – молчание становилось тягостным.
– Я и не беспокоюсь, – Алиса подошла к окну. Ее хрупкая фигурка, казалось, принадлежала кукле-марионетке: дерни за ниточки – и ручки-прутики задвигаются, белобрысая головка-шарик завертится на тощей шейке.
– Не беспокоюсь совершенно, – повторила Алиса. – Было бы странно, если бы они его не отпустили, как только…
– Как только? – Мещерский удивленно приподнял брови.
– Как только Петька расскажет им про нее и этого щенка с татуировкой.
– Про Егора?
– Про брата-кастрата.
– Почему вы так ненавидите Шиповых? – Мещерский помнил, как долго они с Кравченко обсуждали это самое «почему», а теперь ему хотелось услышать ее собственное объяснение.
Но Алиса не собиралась пускаться в откровения.
– Ненавижу – скажете тоже! Много чести: один – слизняк, второй – просто скот. Все вместе – быдло, как скажет Пит. Разве это можно ненавидеть?
– Ваш брат это самое как раз, по его словам, и ненавидит. Сам признавался.
– Дурак.
– Дурак, потому что ненавидит, или, дурак, потому что признавался?
Она смерила Мещерского взглядом и ответила:
– Дурак, потому что дурак.
– А вот мне, например, кажется, что ваш брат, Алиса Станиславовна, никогда не расскажет им про Егора и Звереву. Он и других умолял, чтобы молчали, неужели он сам решится на…
– Он дурак, потому что идеалист. – Алиса извлекла из кармана пачку сигарет и щелкнула зажигалкой. – Для Петьки свет клином сошелся на том, «что скажут» о НЕЙ, о нем и всей нашей семейке. Он все думает, что грязь будут лить, только если к этому подать повод. Идеалист несчастный! Я ему сорок раз говорила: для грязи поводов не нужно. Будь хоть святым – всегда найдутся те, кто выльет на тебя ведро помоев просто так, ради развлечения, от скуки… Вы говорите, он не скажет про нее и Шипова? Ничего. Посидит там среди урок и вшей денька два – и скажет. Вши – они лучше всяких советчиков убеждают. Идеализм этот тухлый, неуместный так и надо лечить – вшами, вшами, парашей! – Она затянулась дымом, кашлянула. – Он должен сказать про нее сам. Выбить из себя всю эту дурь. Ну а если все-таки будет упрямиться, тогда… тогда скажу я.
– А мне кажется, ваш брат старается уберечь имя Марины Ивановны от сплетен не только по причине своего идеализма, – усмехнулся Мещерский. – Может, дело-то все не в идеализме, а напротив, в грубом таком материализме, а? Процесс-то о наследстве длился долго, и выигрыш дался тяжело. А сейчас, видимо, новый на подходе. И если на имя Марины Ивановны бросят хоть малейшую тень, вашим оппонентам будет легче оспорить и ее права, и права ее прямого наследника – то есть вашего, Алиса, брата.