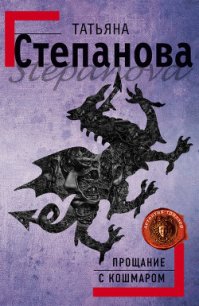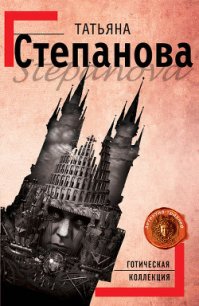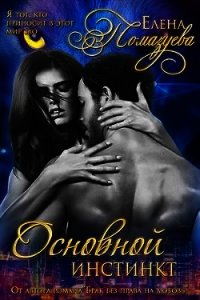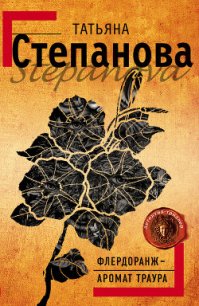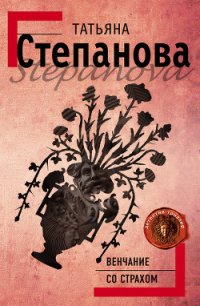Темный инстинкт - Степанова Татьяна Юрьевна (библиотека книг .TXT) 📗
Он и Алиса стояли на ступеньках рядом.
«Семья, – Мещерский смотрел на эту парочку. – Уже ничего нельзя поделать, а они все еще пытаются склеить ее осколки. Хотя бы для того, чтобы уверить чужих: ее семья вне подозрений».
– А я думал, вас тоже арестовали, – к Мещерскому подошел Корсаков. В руках его была бутылка коньяка. – Вас же утром увезли, теперь, значит, отпустили… Ну, да все равно. Они все равно передушат нас всех тут как крыс. Вы по-прежнему, Сережа, не собираетесь отсюда делать ноги?
– Тогда у них действительно появится прямой повод к нашему задержанию, – нехотя ответил Мещерский. – Пресечение попытки сокрытия от следствия.
– А Петьку что же они, по кривому поводу забрали? Прямой повод… скажете тоже.
– По их логике, он виновен даже в том, что смерть Марины Ивановны принесла ему максимальную выгоду.
– Он любил ее, – Корсаков поискал глазами стакан (они стояли уже на пороге кухни), не нашел и пить из горла не стал. – Все дело-то в том, что Петька любил ее как родную мать. А у нее совершенно отсутствовал материнский инстинкт – она сама мне как-то в постели призналась. У больших артистов так бывает: талант высасывает из души все до донышка. Они становятся скупыми на простые человеческие чувства. Да вы и сами, наверное, это заметили в ней.
Мещерский пожал плечами. Когда бывший любовник уже исчез где-то в недрах дома, он перешел в столовую и сел за стол. Появились Кравченко и Сидоров, потолкались в дверях и ушли в сад, все о чем-то тихо толковали, судили-рядили, вспоминая сказанное Натальей Алексеевной, но по их убитому виду было ясно, что все их домыслы и догадки повисают в пустоте неопределенности и недоверия.
– И спросить-то теперь не у кого! – донеслось до Мещерского. – Тихоновна могла бы рассказать, а теперь… Надо искать тех, кто знал Звереву достаточно близко, но только со стороны, не из семьи. Только где ж такого всезнайку теперь найдешь!
В своей тупо-отрешенной задумчивости Мещерский провел больше часа. Затем покинул столовую и направился в музыкальный зал – долго разглядывал там фотографии Зверевой. Некоторые даже снимал со стен, подносил к окну, к свету. Над одним фото – Зверева была там молодой, в костюме Оберона из «Сна в летнюю ночь» – он даже как-то странно колдовал: то закрывал ладонью половину ее лица, то вновь открывал, затем ставил фотографию так, чтобы на нее падал свет под разными углами. Наконец он вернул фото на место – его что-то отвлекло: какой-то шум, доносившийся сверху.
Мещерский быстро взбежал по лестнице. Шум слышался все сильнее: обрывки музыки – военные марши, рев толпы, грохот. Он распахнул дверь в комнату Шипова и…
Егор сидел на полу перед включенным на полную громкость телевизором. На экране шла видеозапись старой военной хроники: Бенито Муссолини выступал с балкона дворца на пьяцца Венеция в Риме. Шипов смотрел на дуче, когда вошел Мещерский – даже и ухом не повел.
– Что он говорит, Егор? – поинтересовался Мещерский – из уст Муссолини выскакивали резкие рубленые фразы, как щепки из-под топора дровосека. Это был совсем иной итальянский, не тот певучий и сладкозвучный, на котором Зверева пела свои арии.
Шипов медленно обернулся, смерил непрошеного гостя взглядом. И в эту минуту он тоже показался Мещерскому совершенно иным – не тем побитым растерянным юнцом. Нет, теперь он словно состарился лет на десять, и в его взгляде уже не было ни растерянности, ни желания, ни страха – ничего. Только исступление и пустота.
– Он говорит, что каждый может стать богом. Для этого надо только хотеть и верить. И принимать нужную форму.
– Лгать, что ли? Притворяться? – Мещерский поморщился: его тоже теперь тянуло к экрану. А там Муссолини в окружении чернорубашечников поднимался по ступеням летней виллы. Рядом с ним шла тоненькая юная женщина – невзрачная и изящная, как старинная кукла.
– Кларетта Петтачи, – Шипов облизнул сухие губы. – Смотри, смотри, какие они.
И Мещерский смотрел и на этого стареющего грузного мужчину на экране, на его волосатые руки, бритую голову, бульдожью челюсть, и на его юную любовницу – полуженщину-полуподростка, на эту чудовищную разницу в возрасте, которая их разделяла, на беснующуюся от восторга толпу, оттесненную от ступенек солдатами, на вскинутые вверх в приветствии римских цезарей руки и на этого застывшего на полу парня, исступленно впитывавшего в себя все это, и внезапно…
«Да он же искал своего кумира в ней! – осенила его догадка. – Человек, захотевший стать богом… Для него все отражалось как в кривом зеркале – вот это самое и отражалось… Господи, да это и не чувства, не влечение, не страсть, это же просто самообман. Такое же извращение… Он искал в Зверевой…»
– Егор, ты слышишь меня? Выключи! – крикнул он. – Выключи немедленно!
Шипов не двинулся. Мещерский дотянулся до пульта и выключил запись: экран погас.
– Она умерла, Егор! Убита! Убит твой брат, еще один человек погиб, а ты… Неужели ты думаешь, что вот так люди становятся богами? Неужели ты вообразил, что это происходит вот так?
– Уйди отсюда, – Шипов вдруг согнулся и лег лицом вниз на ковер. Спина его выгнулась горбом, ощетинившись буграми накачанных мышц точно броней. – Если бы вы знали… если бы вы только знали, как вы мне осточертели все. Дерьмо… Дерьмо!
– Они все слишком долго жили в Италии. – А вот эту фразу, сказанную нарочито громко Зверевым, Мещерский услыхал, уже спускаясь вниз. В музыкальном зале у окна на диване сидел Сидоров. А брат певицы и Кравченко стояли в дверях.
Кому конкретно адресовалась эта фраза, Мещерский доискиваться не стал. Он тоже прошел в зал (Кравченко посторонился, чтобы дать ему дорогу).
– Если это сделал Петр – это ужасно. Но если вы ошиблись, – Зверев повысил голос, обернув к оперу бледное, небритое и почему-то ужасно похорошевшее от скорби лицо свое – великолепную маску трагического героя, – это ужаснее во сто крат. И для вас, и для нас, для нашей семьи. Это ведь такое пятно. Несмываемое! Насколько я понял, у вас же нет доказательств. Никаких! Вы забрали его только потому, что он – наследник.
– Совершенно верно, – Сидоров мрачно смотрел на свои ногти. – Еще несколько дней назад мы, не зная об усыновлении, считали наследником вас, Григорий Иванович. Но… – тут он выдержал коварную паузу. – Не беспокойтесь. У вас еще есть великолепный шанс оказаться в том же самом месте, где и ваш племянник. Вместе с ним – или вместо него, если он, как вы убеждены, ни в чем таком не повинен.
– Вы угрожаете мне? – Зверев прищурился.
– Нет, я вас всего лишь информирую о ходе следствия. Чтобы вы не слишком забывали о той хреновой ситуации, в которой очутились.
– Нам надо что-то решать с похоронами! – резко заявил Зверев после вынужденной паузы. – У нас трое близких до сих пор не преданы земле!
– Решите-решите, – Сидоров нехотя кивнул. – Не наша вина, что ваши покойники плодятся чересчур уж по-стахановски.
– Но и не моя тоже, – тихо и многозначительно парировал Зверев.
Опер скользнул взглядом по собеседнику.
– Я уж и не знаю, кому верить в этом доме, – сказал он, и это получилось у него не слишком лживо. – Ну просто не знаю.
Зверев шагнул к дивану, не сел – а рухнул, закрыл лицо рукой.
– Григорий Иванович, прошу вас, ответьте, – Кравченко решил продолжить оборванную нить беседы, сел рядом и положил дубляжнику руку на плечо, – только честно ответьте: у Марины Ивановны действительно не было собственных детей?
Зверев взглянул на него с неподдельным удивлением.
– Я не понимаю, Вадим, что вы хотите сказать?
– Я спрашиваю: кроме Петра и Алисы, в этой семье были еще какие-нибудь дети, может быть… очень давно?
– То есть как? – снова не понял Зверев. – Как это были? Откуда?
– Ну, она сама рожала ребенка? Матерью становилась? – Кравченко чувствовал, что мелет чушь, неверно ставя вопросы, но именно так нелепо ему и хотелось их поставить.
– Да от кого?! – Зверев даже привстал.