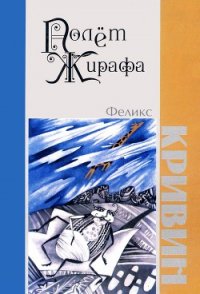Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 52. Виктор Коклюшкин - Коллектив авторов (книги без регистрации полные версии .txt, .fb2) 📗
Конечно, и здесь время наложило свой тягостный отпечаток: многие лица были размыты, пальцы, локти, носы частью отколоты. Но общая композиция производила грандиозное и вместе с тем щемяще-трогательное впечатление.
— Друзья! — вдруг воскликнул Померанцев. — А где же Виктор и… Рагожин?!
— Они ж… на перекрестке еще отстали! — вспомнил Валентин, обернулся и закричал: — Э-э-эй! Му-жи-ки!..
Эхо покатилось по развалинам.
— Пойдемте скорее домой, — негромко попросила Надя.
Решили задержаться в городе на три дня. Пополнить запас питьевой воды, обеспечить в дорогу провизию, более подробно ознакомиться с памятниками истории и культуры Атлантиды.
Валентин вызвался найти в окрестностях города нефть и пробурить скважину.
Рагожина уложили пить таблетки, какие даст Надя, и стараться ни о чем не думать. Рыбку я у него так и не смог отобрать, он держал ее в кулаке, изредка разжимал пальцы, смотрел на игрушку, и слезы катились у него из глаз.
Накануне ночью мы почти не спали. Я притащил Рагожина, когда все уже не на шутку начали волноваться. Михалыч стоял на крыле, высоко держал свечку, щурился в ночь.
Я возник из темноты, как привидение.
— Стой! Кто идет?! — выкрикнул Михалыч.
— Мы… — чуть слышно ответил я. Сил уж не оставалось. Еле тащил: за ноги не потянешь — голову ему отшибешь. Тащить под руки и пятиться задом — своя голова быстро устает назад оглядываться. Пробовал взваливать на плечи — сам падал, физкультурой-то мало занимался! Не готовил себя людей носить. Намучился, со зла думал: уж лучше я сам в следующий раз раненым буду!
Рагожина отнесли в кают-компанию на его место — в угол. Сделали искусственное дыхание, поставили градусник, укутали потеплее.
А солнце уже всходило над Атлантидой! В туманной дымке утра казалось, что сейчас захлопают двери, зазвонят тут и там будильники, раздадутся резкие спросонок голоса, заплачет где-то ребенок, а потом, когда солнце поднимется еще выше, улица заполнится пешеходами, повозками, автомобилями иностранных марок (от куда они тут?!) и, в довершение ко всему, раздастся свисток полицейского регулировщика…
Но солнце взошло, а никто не вышел. Нигде не раздался человеческий голос. Древний город явился из ночной тьмы одинокий и никому не нужный настолько, что и ночь могла бы на него не опускаться.
Все складывалось до крайности нелепо: полетели искать Тунгусский метеорит, а нашли Атлантиду.
Мы брели с Николаем Николаевичем мимо усопших домов. Солнце волокло наши тени по стенам, и было в этом какое-то вызывающее несоответствие: хотелось или поскорей пройти вперед, или вернуться. Бросалось в глаза несоответственно большое количество цифр на сохранившихся фасадах, были они выполнены из незнакомого металла и составляли какие-то загадочные числа.
Улицы, пересекаясь, образовывали площади, и здесь, как правило, находились более обширные здания, которые, кстати, почему-то сильнее пострадали.
Одну из площадей украшал фонтан, выложенный из розового гранита в форме цветка ромашки. В трещинах весь, конечно, занесенный песком… Судя по всему, он служил горожанам еще и солнечными часами. Легко было представить бьющую в голубое небо струю, водяную пыль, оседающую вокруг… веселые лица атлантидцев.
— Видимо, фонтан-часы символизировал красоту и быстротечность жизни, — высказал я догадку.
Николай Николаевич похвалил меня и кинул зачем-то в фонтан монетку.
Н. Н. Померанцев — в прошлом новорожденный, затем мальчик, юноша, мужчина — был одинок, честен, осторожен. Еще в детстве он, прежде чем чиркнуть спичкой и зажечь газ, ставил рядом ведро воды. Не женился по той же причине — из осторожности, что семья развалится, а он очень любил детей!
Бывало, в воскресенье сидит на бульваре рядом с песочницей и представляет, что и его карапуз возится там. Сидит, бывало, волнуется: как бы кто ребенка лопаткой не ударил, песок в глаза не попал… Бывало, целый час как на иголках! В пасмурную погоду тянуло Николая Николаевича пройти мимо детской поликлиники. Бывало, шаг замедлял, сердце сжималось, и на глазах выступали слезы.
Первого сентября — это уж обязательно! — просыпался взволнованный и боялся опоздать… Стоял в толпе родителей у школьного крыльца, и уж так развито было у него воображение, что правая ладонь его ощущала пустоту, будто она вот-вот, только-только держала маленькую теплую ладошку…
Первого сентября я приходил обычно к Николаю Николаевичу в гости на улицу Гарибальди. Он доставал коньяк (предпочитал армянский), тонко резал лимон. В томительной, сладостной тишине мы выпивали по рюмочке, после чего Николай Николаевич со знанием и значением говорил о необходимости гармоничного развития маленького человека, о будущем нации и государства… А я поддакивал, что детских колготок 14–16 размера не купишь, в ясли очередь…
Папа Николая Николаевича — известный в свое время фармацевт, создатель безвредной мази «Минутка», считал, что главное в жизни — сама жизнь. Жил он легко, пышно, празднично, а праздники, как известно, скоро кончаются…
Мама Николая Николаевича — Софья Павловна — дочь эстрадного артиста-куплетиста Нефедова-Крачковского, женщина была добрая, мягкая; единственное, что ее раздражало и по-настоящему могло вывести из равновесия, — куплеты. Ко всему остальному она относилась с завидной терпимостью: к внешности, к быту, к соседям по коммунальной квартире, к учебе сына и к своей работе — контролера в кинотеатре «Аврора» на Покровке. Она не глядела, что ей протягивают, надрывала и бросала в высокую урну, стоящую рядом, то фантик, то клочок от газеты, как-то удостоверение одного уполномоченного товарища порвала и бросила. В зале случались, конечно, перепалки, но в конце концов свет гас, и на экране, дрожа, появлялись первые титры.
Мальчиком Николай Николаевич много времени проводил в кино, смотрел все подряд, и постепенно жизнь его сместилась из реального мира в кинематографический. Мир иллюзий стал главным, а папа, мама, учителя в школе, сверстники — как бы выдуманными персонажами, с которыми надо было держаться настороже, чтобы они не могли нарушить внутреннего покоя. Кинематограф предпочитал зарубежный и, если летом смотрел фильм итальянский, выходил из кинотеатра — загорелый!
За последнее время Померанцев заметно изменился: стал сухощавее не только лицом, но и движениями, жестами. Вот и сейчас он шел по Атлантиде подобранный, чутко приглядывался и прислушивался.
В одном месте улицу перегородила полусгнившая рея парусного корабля. Чей был корабль? Когда случилось кораблекрушение? Удалось ли кому спастись? Много вопросов оставалось без ответа.
Вскоре мы вышли к широкой лестнице. Белесые, какие-то утомленные ступени полого уходили к вершине холма, где, покосившись, стояло сооружение, напоминающее издали церковь.
Почему-то казалось, что стоит подняться наверх — и увидишь на горизонте моря маленький белый кораблик. Сознание никак не хотело мириться с царящей везде заброшенностью и пустотой.
Мы поднялись на несколько ступеней и сели передохнуть. Я провел ладонью по теплому камню — чистый. В каких-то рубчиках, словно в морщинах… Что за люди поднимались по этой лестнице? Чьи ноги наступали на эту ступеньку? Что было для тех людей основным в жизни: справедливость, честь или внимание и благосклонность правителя? Что торжествовало: тщеславие, ум или жестокость?
— Я вот о чем думаю… — начет задумчиво Померанцев.
— О том, что здесь торжествовало?
— Меня занимают цифры на стенах. Вы обратили внимание, что они расположены как-то… указующе?
— Ну, вообще-то…
— Вот что я думаю… — Николай Николаевич говорил неторопливо, как бы проверяя себя, — что это… письменность.
— Как же… ведь цифры?
— Да, да — письменность, — повторил более уверенно Померанцев. — И ее будет довольно несложно расшифровать.