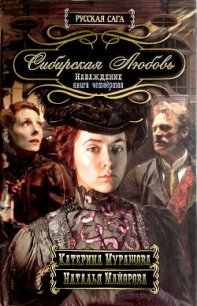Глаз бури - Мурашова Екатерина Вадимовна (читать полностью бесплатно хорошие книги .TXT) 📗
– Да, конечно, – легко согласилась Софи. – Как ты скажешь. Откуда мне-то знать? Не у Аньки же спрашивать…
Софи и дальше казалась веселой и любопытно заинтересованной в происходящем, и лишь заглядывая в ее окончательно почерневшие глаза, Туманов мог разглядеть там растерянность и отчаянный страх, от которого у него внутри все сжималось, а к горлу поднималась душная ненависть к самому себе. Ему одновременно хотелось бежать из комнаты, куда глаза глядят, и – остаться. Как называется это чувство, Туманов не ведал.
Когда он накрыл рукой грудь Софи, совсем небольшую для ее роста и сложения, то почувствовал, как сердце девушки теплым воробушком заполошно колотится под его ладонью.
Почему-то и совершенно вроде бы некстати вспомнилась картинка из детства. Мишке Туманову (впрочем, Тумановым он стал несколько позже) исполнилось тогда лет восемь или девять. В тот год выдалась удивительная, морозная до нутряного деревянного треска зима. Морды извозчицких лошадей напоминали головы сказочных заиндевевших драконов. Люди старались попусту не покидать своих домов. На перекрестках день и ночь горели костры, у которых вперемешку грелись извозчики, нищие, бродячие псы и совершенно переставшие бояться людей и огня птицы.
В ту зиму многие Мишкины уличные знакомцы замерзли насмерть, особенно из числа тех, кто пытался согреться, принимая внутрь горячительные напитки. Самому Мишке несказанно повезло. Он сумел отыскать практически незапертый чердак в небольшом доходном доме на Калашниковской набережной. Чердак, конечно, вымораживался и продувался насквозь невскими студеными ветрами, но возле теплой кирпичной трубы, свернувшись в комок, укутавшись в тряпье и регулярно переворачиваясь сбоку на бок, вполне можно было переночевать. Места там было ровно на одного, и, отыскав убежище, сулившее в эту ужасную зиму жизнь и даже относительный комфорт, Мишка в первую очередь озаботился тем, чтобы обезопасить его от взрослых конкурентов, которые, разумеется, тут же выбросили бы прочь маленького оборвыша. Поразмыслив и призвав на помощь весь свой опыт, он расставил на последнем пролете лестницы и с обеих сторон покосившейся чердачной двери несколько хитроумных ловушек. За зиму пятеро оборванцев попались в них. Трое убрались восвояси целыми и относительно невредимыми. Самый глупый и настырный сломал ногу (притаившийся в темноте Мишка даже слышал, как хрустнула кость). Еще одному, по-видимому, проломило голову. (Здесь Мишка не знал точно, как было дело, но, едва обнаружив на лестнице лужу крови и рваный, испачканный кровью картуз, аккуратно убрал к приходу полицейских дознавателей все ловушки и все следы своего пребывания на чердаке).
Никакой, даже самомалейшей жалости к пострадавшим от его рук или замерзающим на улице людям Мишка не испытывал. Будучи неграмотным и уж тем более незнакомым с трудами англичанина Дарвина, он был стихийным и убежденным сторонником теории, которую образованные люди того времени называли социальным дарвинизмом. Она гласила, что в каждодневной борьбе за существование побеждает самый сильный. Или самый умный. Или, на худой конец, самый ловкий и изворотливый. Никакой другой справедливости в этом мире нет, не было и не будет. Трезво взвешивая свои возможности, Мишка очень рассчитывал когда-нибудь оказаться в числе победителей. В ту зиму, например, он был твердо намерен выжить, и свое намерение исполнил.
Но жалость, видать, все же отпущена каждому человеку в комплекте вместе с остальными чувствами. Не жалея людей, Мишка в ту зиму отчего-то подбирал замерзающих на лету и падающих прямо на улицах воробьев. Он собирал ледяные комочки промерзших перьев, складывал их к себе за пазуху, приносил на чердак и аккуратно выкладывал вдоль теплой трубы в рядок. Если до утра воробьи не оживали, он еще до рассвета выбрасывал трупики в слуховое окно. Оживших дополнительно согревал в ладонях, кормил размоченными в воде крошками, настойчиво поил водой из ржавой жестянки, из которой пил сам.
Именно с тех пор он навсегда запомнил это странное ощущение – крошечное птичье сердечко, бешено колотящееся в его ладони…
И теперь ему, наверное, хотелось согреть, защитить, накормить и напоить водой прямо в клювик, но вместо этого он должен был…
Михаил попробовал поцеловать Софи. Уж что-что, а целоваться-то он умел, это многие признавали. Софи не ответила, казалось, она даже не поняла, чего он от нее хочет. Тогда он снова притянул ее к себе. Она уже привычно прижалась лицом к его шее и прошептала едва слышно:
– Не бойся, Мишка. Все будет хорошо. Я же не боюсь…
Потом она закусила нижнюю губу и молчала уже до самого конца. Вместо нее стонал и едва ли не плакал Туманов.
Софи между тем тоже вспоминала. И тоже сцену из детства.
Она вместе с семьей живет в имении, которое потом, после смерти отца, продали за долги. Деревья уже пожелтели, и вскоре вся семья собирается уезжать, перебираться в город. Старенькая няня уже потихоньку собирает узлы, горничная пересчитывает и натирает мелом серебро…В осеннем саду Софи вместе с братьями и их друзьями играет в индейцев. Мальчишки (все они младше ее) привязали девочку к старой липе, развели костер и теперь с дикими криками скачут вокруг него, по-видимому, полагая, что исполняют индейский боевой танец:
– Умри, бледнолицая скво!
– Мы проткнем тебя нашими томагауками и украсим твоим скальпом наш вигвам!
– Мы перережем всех бледнолицых, как жирных свиней!
Софи обидно смеется им в лицо и выкрикивает ужасные оскорбления всех священных индейских ценностей (подробно описанных в романах Фенимора Купера). Мальчишки приходят в ярость и начинают обстреливать Софи из луков. Их кривые стрелы сделаны из рябиновых веточек, и большинство их летит мимо. Одна стрела, выпущенная Гришей, случайно попадает Софи прямо в правый глаз. Софи кричит. Младшие братья Софи тут же начинают реветь от страха. Остальные «индейцы» моментально разбегаются от греха подальше. Гриша, кусая губы, дрожащими руками пытается отвязать Софи, но не может справиться с узлами. От крыльца на крики и плач детей уже бегут няня и кухарка с грозно поднятой поварешкой.
Чуть позже Софи сидит на диване в гостиной. Заплывший кровью глаз прикрыт чистой тряпочкой. Сверху кухарка разбухшим пальцем придерживает кусочек льда. Гриша стоит на коленях у ног Софи и воет в голос. У него истерика, но его никому не жалко.
– Прости меня, Сонечка! Прости, милая! – рыдает Гриша, простирая руки к сестре. – Я не хотел! Я умоляю тебя! Скажи, что ты меня простила! Хочешь, побей меня палкой или папиной плеткой! Что хочешь делай, только прости!!! Я же не хотел! А-а-а!
Софи уже совершенно не больно. Глаз слегка чешется, и еще холодно от льдинки, которую держит кухарка. Все это вполне можно потерпеть, тем более, что кухарка задолго до ужина скормила ей, как пострадавшей, два куска горячего пирога с малиной и вместо молока дала огромную кружку сливок, которую обычно выпивает «слабенькая и болезненная» Аннет.
Софи отводит от себя кухаркину руку и, придерживая тряпочку со льдом, неловко сползает с дивана.
– Уймись! Чего ты орешь? – говорит она, присаживаясь на корточки рядом с братом. – Видишь, я жива, здорова. И тебя прощу, коли ты мне свой томагаук отдашь, который тебе Савелий из клена вырезал, и штаны с нашитой бахромой.
– Сонечка, клянусь, я тебе все отдам! – истово говорит Гриша. Сейчас ему явно не жалко потрясающего, раскрашенного томагаука с резной рукояткой. – Я тебе чем хочешь служить буду. Маман сказала, ты теперь ослепнешь… Я боюсь… А-а-а! – и мальчик снова заливается слезами. Софи брезгливо морщится.
– Да прекрати ты! – спокойно и даже сурово говорит она. – Я же вижу все. Обоими глазами. И тем, и этим. Чего ты боишься? Видишь же – я не боюсь!
Гриша поднимает залитое слезами лицо и с надеждой глядит на сестру.
– И куда это взрослой, двенадцати лет девице порты с бахромой?! – неодобрительно бормочет кухарка. – Все игры ваши дурацкие…