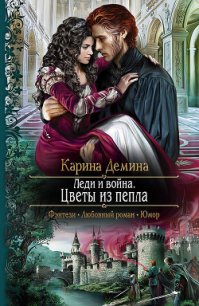Хозяйка Серых земель. Капкан на волкодлака - Демина Карина (читать книги полные .TXT) 📗
— Ты — мужик! Он — мужик! Слышите?
Приказчик меленько кивал, и щеки его полыхали багрянцем.
— Нет! — неистовствовал пан Зусек. — Скажи им всем! Скажи, чтобы услышали! Чтобы поверили!
Гавриил приказчику не поверил, но старания бедолаги оценил. Пан Зусек же, поднимаясь по лестничке, рыскал взором.
— Гавриил! — воскликнул он. — Ты! Я верю в тебя! Спускайся! И я открою в тебе внутренние силы!
— А чего это он? — влез субъект и руку Гавриилову перехватил, когда тот собирался встать. — Сговорились небось.
— Ложь! — Пан Зусек махнул рукой, позабывши про тогу, и та едва не слетела, но была вовремя подхвачена. — Спускайтесь сами, если хотите. Я раскрою ваш потенциал!
— А и хочу! — Субъект поспешно вскочил и, указав на толстяка, велел: — Пускай он тоже…
— Не пойду. — Господин вцепился в ручки кресла так, что они затрещали.
— Почему? — нехорошо прищурился пан Зусек, который испытывал несказанный прилив вдохновения и желал немедля, сей же час, изменить чью-либо жизнь.
— Больно будет.
— Не будет, — отмахнулся пан Зусек. — И вообще, вы только представьте, какие перед вами откроются перспективы…
— К-какие?
— Замечательные. Встать!
И толстяк подчинился.
Он был по натуре человеком мягким, не привычным к крику, а оттого робел что перед паном Зусеком, каковой виделся ему личностью грозной, авторитарной, что перед супругой, но пуще всего — пред тещею своей, Аглаей Венедиктовной.
— Идите туда, — указал на сцену пан Зусек.
— А может…
— Иди. — Субъект выбрался в проход, не отказав себе в удовольствии потоптаться по Гаврииловым ботинкам, к которым он и сам успел проникнуться тихой, но лютой ненавистью.
— И ты, Гавриил, — милостиво велел пан Зусек. — Взойди к вершинам осознания…
— Куда?
— Туда!
Аккомпаниатор, очнувшись от дремы, заиграл превеселенький марш, на который зал отозвался жиденькими овациями. И не понять было, кому аплодировали — аккомпаниатору, Гавриилу со товарищи, пану Зусеку ли, ныне как никогда еще походившему на Цезаря. Правда, вряд ли Цезарь носил лакированные ботинки вкупе с белыми носками, но кого и когда волновали подобные мелочи?
Пан Зусек на овации отвечал благосклонными кивками, от которых лавровый венец, исполненный из самого настоящего лавра, а после покрытый золотой краской — и дешево, и правдоподобно, — съезжал к левому уху. И к тому моменту, когда пан Зусек вновь взошел на сцену, Цезарь в его исполнении приобрел вид лихой, слегка разбойничий.
— Вы все, пришедшие сюда, дабы изменить свою жизнь… к вам обращаюсь, братья! — Пан Зусек венок поправил, дав себе зарок, что на следующее выступление — а пока проводились они ежедневно, принося неплохой доход, — воспользуется жениными шпильками. — Слушайте же! Внемлите! Отриньте оковы ложного стыда и страха! Поднимитесь с колен! Вы… каждый из вас в этой жизни сталкивался с женщиной! С первых мгновений жизни они порабощают нас, лишая воли и разума…
— А то, — произнес субъект в стороночку, — вот как сейчас помню. Родился я, значит… открываю глаза и вижу…
Он сделал театральную паузу.
— Кого? — не выдержал господин, который на сцене в окружении колонн и рисованных развалин чувствовал себя крайне неудобственно.
— Женщину… мамку мою, значитца… лежит вся такая… смотрит… думает, как волю поработить.
— И как?
— Сиськой. — Субъект ткнул пальцем в картонную колонну, которая этакого обращения не выдержала и хрустнула, к счастью, ни хруста, ни дыры аккуратненькой никто не заметил. Субъект же, тяжко вздохнув, продолжил: — Вот с той поры и повелось. Куда ни сунешься, там женщина…
— Лежит? — уточнил Гавриил, которому было тяжеловато слушать одновременно и субъекта, и пана Зусека, вещавшего о том, как женщины хитры.
— Ну почему лежит? Иногда сидит… а порой, скажу больше, стоит или вот ходит. Но порабощает однозначно. — Субъект покачал головой и, поплевав на ладонь, пригладил реденькие рыжеватые волосы.
— Чем?
— Сиськой же! Как увижу, так сразу лишаюсь и воли, и разума. — На Гавриила поглядели с упреком, мол, как можно этакие глупые вопросы задавать. — Если хотите знать, молодой человек, то сиськи правят миром…
Возразить было сложно, и Гавриил промолчал.
— И вы все, а иные не единожды оказывались беспомощны пред ними… они, в коварстве своем называя себя слабыми, слабостью этой пользуются беззастенчиво.
— А у меня жена, — пожаловался господин, переминаясь с ноги на ногу.
— Сочувствую. — Субъект повел плечами, будто бы дрянной его пиджачишко вдруг стал ему тесен. — Я бы сказал даже, соболезную.
— Спасибо.
— И сколько раз случалось вам с замиранием сердца, со страхом ждать ответа? Сколько раз вы изводили себя тщетной надеждой, что однажды она, та, которая запала вам в душу, взглянет на вас с интересом? Или же вовсе одарит вас благосклонностью.
Господин вздохнул.
Субъект, казалось бы утративший всякий интерес к беседе, озирался.
Гавриил слушал.
— Я же скажу вам так! — Пан Зусек в приливе вдохновения, источником которого была не только уверенность в собственной правоте, но такоже неплохой коньяк, купленный исключительно для успокоения нервов, простер руки над залом. — Не стоит ждать милости от женщины! Надо пойти и взять ее!
— Ежели просто пойти и взять, — под нос произнес субъект, — то это статья будет… от десяти лет каторги до пожизненного…
Господин крякнул, видать, впечатлился.
Пан Зусек смолк, и аккомпаниатор торопливо забренчал на рояле мелодию, под которую в иных пьесах помирали героини. Мелодия сия долженствовала звучать грозно, тревожно и одновременно с трепетом, однако рояль после многих недель труда оказался не способен воспроизвести ее с должным пафосом. Он тренькал, поскрипывал, а порой и вовсе издавал звуки престранные, заставлявшие аккомпаниатора сбиваться и замолкать.
— Вот! — За свою карьеру пану Зусеку случалось выступать в местах, куда менее годных для великого действа, каковым являлась его лекция. Потому и к расстроенному роялю, и к дырявой колонне, и к венку, что упрямо съезжал с макушки, он относился с философским спокойствием. Куда сильней его волновали люди, что стояли на сцене. — Вот те, кто ныне преобразится. Вы!
Начал он с толстяка, который был красен и несчастен, он тер лоб и щеки мятым платком, пыхтел и щупал пуговицы на жилете.
— Скажите им, — пан Зусек провел рукой, охватывая зал, — скажите, что вы мужчина!
— Я… мужчина, — без особой уверенности в голосе повторил толстяк. — Мужчина я… в метрике так записано.
Голос его сделался вдруг тоненьким, а рояль, измученный мелодией, неожиданно рявкнул, заставив толстяка отступить от края сцены.
— Мужчина… но поглядите, до чего вы себя довели! — Пан Зусек безжалостно ткнул пальцами в живот. Пальцы были жесткими, а живот — так напротив. — Где ваша гордость? Где ваша стать?
— Где-то там… — прокомментировал субъект, разглядывая пана Зусека с немалым интересом. Особенно субъекта заинтересовал венок, который сидел набекрень, прикрывая левое ухо. Над правым же торчала обскубанная лавровая веточка.
— В каждом из нас, — пан Зусек сменил тон, — живет варвар! Первобытный. Дикий. Яростный. Он желает одного: сразиться и победить! Ясно?
Толстяк помотал головой.
— Варвар не преклоняется пред женщиной! Он ее завоевывает! И не цветочками-стишатами, но лишь аурой грубой силы… своего превосходства. Ты женат?
Толстяк кивнул.
— Женат. Жена тебя не уважает?
Вздохнул тяжко.
— Небось говорит, что ты не мужчина… что она растратила на тебя лучшие годы своей жизни. — Теперь голос пана Зусека звучал едко. И от каждого слова толстяк вздрагивал. — Она смеется над тобой. Унижает! А еще…
Он наклонился ближе, заставив толстяка попятиться.
— Еще у нее есть мама!
Пан Зусек резко отвернулся.
— О да… мать жены… дражайшая теща… существо, сотворенное самим Хельмом, чтобы отравить всякую радость, которую только можно получить от брака. Она или живет с вами, или незримо присутствует в вашей жизни! Она везде! Ее портретами полнится ваш дом. Ее письма жена хранит в вашем секретере! А ныне… ныне теща может звонить! И вы, всего-то сняв трубку, услышите ее голос столь же явно, как если бы она сама явилась пред вами… как знать, быть может, недалеко то время, когда наука пронзит пространство и сделает возможным мгновенное перемещение. И тогда… тогда, даже живя в другом городе, вы не спасетесь от тещи…