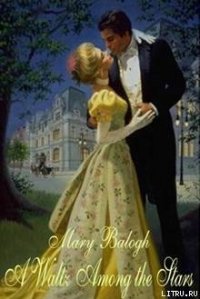Я буду любить тебя... - Джонстон Мэри (хорошие книги бесплатные полностью TXT) 📗
— Стало быть, нам надобно спешить в Джеймстаун так, будто от этого зависит наша жизнь, без еды, сна и отдыха?
— Да, — ответил Нантокуас, — если не хотите, чтобы смерть постигла и вас, и весь ваш народ.
В вигваме стало тихо, слышно было лишь, как потрескивает огонь в очаге и ветви склонившихся под ветром деревьев царапают сложенную из коры крышу.
— Смерть? — выдавил я наконец. — Какая смерть? Да говори же!
— Смерть от стрел и томагавков, — отвечал он, — и от мушкетов, что вы отдали людям с красной кожей. После того как солнце зайдет три раза, на англичан обрушатся все наши племена. В тот час, когда мужчины будут в поле, а женщины и дети в своих домах, они ударят все как один: и кекофтаны, и паспахеги, и чикахомини, и паманки, и эрроухейтоки, и чесапики, и нансмонды, и аккомаки, — и нигде, начиная с того места, где реки Паухатан надает с высоты на камни, до большой соленой воды, что лежит за землями аккомаков, не останется ни одного живого белого.
Он замолк, и с минуту в хижине слышался лишь один звук — потрескивание пламени. Потом ко мне вернулся голос.
— Все погибнут? — тупо переспросил я. — Но ведь в Виргинии живут три тысячи англичан.
— Они разбросаны далеко друг от друга и не предупреждены об опасности. А в индейских деревнях, что стоят на берегах Паухатана, Паманки и большого залива, много воинов, и все они наточили томагавки и наполнили колчаны стрелами.
— Разбросаны, — повторил я. — Рассеяны вдоль всей реки — одинокий домик здесь, два или три там… В Джеймстауне и Хенрикусе никто не ждет подвоха: мужчины будут в полях или на пристанях, женщины и дети — дома, за работой… И ни одна живая душа ни о чем не подозревает… О Боже!
Дикон, стоявший у дверного проема, решительно шагнул к очагу.
— Нам лучше идти сейчас, сэр, — сказал он. — Теперь, когда у меня есть нож, я наверняка смогу прикончить хотя бы одного из этих проклятых часовых. А когда мы от них отделаемся…
Я покачал головой, индеец тоже сделал отрицательный жест.
— Тогда ты просто станешь первой из многих жертв.
Я привалился к стене вигвама, ибо сердце в моей груди колотилось, как у перепуганной женщины.
— Три дня! Если мы будем спешить что есть мочи, то успеем. Когда ты обо всем этом узнал?
— Пока вы смотрели на пляску, мы с Опечанканоу сидели в его вигваме. Было темно. Он расчувствовался и рассказал мне о тех днях, когда он сам был молод и жил в далекой стране к югу от заката. У его племени были каменные дома, и поклонялись они великому и свирепому богу, которого поили человеческой кровью и кормили человеческим мясом. В ту страну тоже пришли белые люди на кораблях. Потом он рассказал мне о моем отце, о его мудрости, о том, каким великим вождем он был до того, как сюда явились англичане, и о том, как они заставили его встать на колени в знак того, что он владеет своими землями по воле их короля, и о том, как он их ненавидел. А потом Опечанканоу сказал, что все племена называют меня женщиной и говорят, что мне более не мила тропа войны, но он, не имеющий собственных сыновей, любит меня как сына, ибо знает, что в сердце своем я остаюсь индейцем. А потом он поведал мне то, что я сейчас пересказал тебе.
— Давно ли он это задумал?
— Уже много лун тому назад. Теперь я понимаю, каким ребенком я был, ребенком, которого обманом сманили с верной тропы и который более не замечал ее под покровом цветов и пеленой дыма из трубок мира.
— Но для чего Опечанканоу отсылает нас обратно? Вера английских поселенцев в него и без того крепка, как никогда.
— Это его каприз. Всех охотников, торговцев и тех, кто изучал наши языки, отослали либо в Джеймстаун, либо в их поселения с дарами и напутствиями, которые были слаще меда. Опечанканоу сказал вашим троим провожатым, когда именно вы должны прибыть в Джеймстаун. Он хочет, чтобы вы разливались соловьями, рассказывая губернатору лживую сказку о мире, но не успеет кто-либо выкурить трубку после этих ваших слов, как со всех сторон грянет боевой клич племен. Но если те, кто пойдет с вами, заподозрят, что вы что-то знаете, они убьют вас в лесу.
Он снова замолчал, застыв у столба, прямой как стрела, освещенный отблесками пламени, играющими на его обнаженных бронзовых руках и суровом, бесстрастном лице. За стеной вигвама поднялся ветер и завыл в голых ветвях, а издалека донесся взрыв особенно громких воплей. Циновка, закрывающая входной проем, шевельнулась, между нею и стеной показалась тонкая смуглая рука и поманила нас наружу.
— Зачем вы пришли сюда? — снова заговорил индеец. — Раньше, когда на всех землях от Чесапикского залива до самых дальних охотничьих угодий на западе жили одни люди со смуглой кожей, мы были счастливы. Для чего вы оставили свой родной край и сели на огромные черные корабли с парусами, похожими на летние облака? Разве ваш край не хорош? Разве леса ваши не обширны и не зелены, поля не плодородны, а реки не глубоки и не полны рыбы? А те города, о которых я слыхал, — разве они не прекрасны? Вы храбрые воины — так разве там, за большой соленой водой, у вас не было врагов, и вы не ходили тропой войны? Там ваша родина, а человек должен любить землю, на которой он охотится и на которой стоит его деревня. Здесь земля краснокожих. И они хотят, чтобы их охотничьи угодья, и маисовые поля, и реки принадлежали им одним и их женам и детям. У людей с красной кожей нет кораблей, на которых они могли бы уплыть к другим землям. Когда вы только явились, мы подумали, что вы боги; но вы повели себя не так, как ваш великий белый Бог, который, по вашим словам, так вас любит. Вы умнее и сильнее нас, но от вашей силы и ума нам не лучше, а хуже, ибо они превращают нас из людей взрослых в детей; они, как тяжкий груз, который лежит на плечах и голове ребенка, не давая ему расти. Ваши дары были горьки для нас, вы содеяли нам зло…
— Но не тебе, Нантокуас! — воскликнул я, уязвленный.
Он посмотрел на меня.
— Нантокуас — военачальник своего народа, а Опечанканоу — его король, и вот Опечанканоу лежит в своей постели и думает: «Мой военачальник Пума, сын Вахунсонакока, сидит сейчас у себя в вигваме и делает острые наконечники для стрел из твердого кремня, точит и полирует свой томагавк и думает о том, что через три солнца придет день, когда наши племена сбросят со своего плеча чужую руку — тяжелую белую руку, которая хочет навсегда пригнуть их к земле». Вот и скажи мне ты, который сам водил воинов на битву, какое другое имя можно дать теперь Нантокуасу, и больше не спрашивай, какое зло ты ему причинил.
— Я не назову тебя предателем, Нантокуас, — сказал и помолчав. — Потому что это нельзя назвать изменой. Ты не первый из детей Паухатана, кто любил и защищал белых людей.
— Моя сестра была женщиной, а по летам — ребенком. Она пожалела вас и спасла, не зная, что тем самым вредит своему народу. Тогда вас было мало, вы были слабы и не могли мстить. Но теперь, если вас не убить, вы припадете губами к чаше мщения, и напиток покажется вам столь сладостным, что вы уже вовек от него не оторветесь. Все больше и больше кораблей будут приплывать к нашим берегам — и вы будете становиться все сильнее. Может прийти день, когда густые леса и сверкающие на солнце реки, которые даровал нам Кивасса, не услышат более наших имен.
Он на мгновение замолчал с непроницаемым лицом и глазами, которые, казалось, пронзали стену времени и прозревали непостижимое будущее.
— Уходите, — вымолвил он наконец. — Если вы не погибнете в лесу, если вы вновь увидите того, кого я называл братом и учителем, скажите ему… нет, не говорите ему ничего! Уходите!
— Пошли с нами. Мы, англичане, найдем тебе место среди нас… — начал было Дикон охрипшим голосом, но тут же осекся, когда я резко одернул его.
— Я не прошу тебя ни о чем подобном, Нантокуас, — сказал я. — Нападай на нас, если хочешь. Заранее предупрежденные благородным противником и готовые к бою, мы встретим тебя, как один рыцарь встречает другого.
Он минуту стоял недвижно. Выражение его лица, изменившееся было от неловких слов Дикона, снова сделалось суровым и непроницаемым; затем очень медленно он поднял повисшую руку и протянул ее мне. Его взгляд встретился с моим. В немом вопросе его глаз были и робкая надежда, и горделивое сомнение.