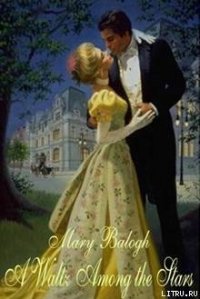Я буду любить тебя... - Джонстон Мэри (хорошие книги бесплатные полностью TXT) 📗
Все это было воспринято как нельзя лучше. Когда индейцы наконец ушли, чтобы поменять раскраску тела для предстоящего пира, мы с Диконом посмеялись над своим дурачеством, как будто, кроме нас двоих, никто больше не умел играть словами. Мы были беспечны и веселы как дети — да простит нас за это Бог!
День тянулся медленно, с нескончаемой переменой блюд, каждое из коих мы должны были хотя бы отведать, с бесконечным курением трубок и речами, которые надо было выслушивать, а потом непременно отвечать. Когда наступил вечер и наши гостеприимные хозяева удалились, дабы приготовиться к пляске, мы были так утомлены, будто целый день прошагали пешком.
Весь день в деревьях шумел сильный ветер, но с заходом солнца он стих, превратившись в горестный шепот. Небо окрасилось тем же странным малиновым цветом, который я видел в Уэйноке в минувшем году. На этом фоне сосны были словно нарисованы чернилами, а узкие извилистые ручейки, пронизывающие болота, походили на струйки крови, которые медленно стекают в реку, черную там, где ее затеняли сосны, красную там, где ее касались лучи заката. Из глубины болот донесся крик какой то большой птицы, и было в нем что-то одинокое и зловещее, словно голос трубы, что играет над павшими на поле боя. Потом небо померкло и стало пепельно-серым, разом похолодало, и в воздухе разлилась какая-то давящая тяжесть, проникающая в самую душу. Дикон вдруг резко вздрогнул, беспокойно заворочался на бревне, которое служило ему ложем, и что-то забормотал.
— Тебе холодно? — спросил я.
Он покачал головой.
— Да нет, просто что-то дрожь пробирает. Я бы с радостью отдал все пиво, которое от начала времен сварили эти язычники, за один глоточек доброго бренди.
В центре деревни высилась огромная куча бревен и сухих веток, которую натаскали за день женщины и дети. Когда стемнело и в лесу заухали совы, ее подпалили и огонь осветил всю деревню из конца в конец. Стоящие там и сям вигвамы, подмостки, на которых сушили рыбу, высокие стройные сосны и раскидистые тутовые деревья — все это разом высветилось, когда пламя с ревом взметнулось до самой высокой безлистной кроны. Теперь деревня светилась, как зажженная лампа, поставленная среди мертвой черноты леса и болот. Опечанканоу, сопровождаемый двумя десятками воинов, вышел из леса и остановился подле меня. Я встал, дабы приветствовать его, ибо он был император, хотя в то же время — язычник и дикарь.
— Передай англичанам, что Опечанканоу стареет, — сказал он. — Годы, которые раньше были для него как капли росы на маисе, теперь подобно граду прибивают его к земле, из которой он вышел. Рука его уже не так быстра и сильна, как прежде. Он стар; тропа войны и танец скальпов более не услаждают его сердце. Он хочет умереть в мире со всеми. Передай это англичанам, а еще скажи им, что Опечанканоу знает, что они добры и справедливы, что они не относятся к людям с иным цветом кожи, как к детям, которых можно обмануть с помощью игрушек, а потом, когда они начнут мешать, убрать их со своего пути. Здешняя земля просторна, и в ней много охотничьих угодий. Пусть же люди с красной кожей, которые жили здесь столько лун, сколько летом бывает листьев на деревьях, и люди с белой кожей, которые прибыли сюда вчера, живут бок о бок в мире, деля маисовые поля, запруды с рыбой и охотничьи угодья.
Он не стал ждать моего ответа, но прошел дальше, и в его величавой фигуре и медленной твердой поступи не было ни малейшего признака старости. Я хмуро смотрел, как его вигвам поглотил его и воинов, и ни на секунду не поверил этому хитрому дьяволу.
Мы сидели, уставясь на огонь костра, когда нас внезапно обступила стайка девушек, вышедших из леса. Они были разрисованы краской, с оленьими рогами на головах и сосновыми ветками в руках. Они танцевали вокруг нас, то придвигаясь, пока темно-зеленые иголки не смыкались у нас над головами, то расходясь, так что нас и их разделяла полоса травы. Их стройные тела блестели в свете костра; они двигались грациозно, в такт жалостной песни, то распеваемой хором, то выводимой одним-единственным голосом. Так некогда танцевала перед англичанами и Покахонтас, танцевала много раз. Я подумал об этой милой девушке, о ее огромных удивленных глазах, о безвременной и печальной ее кончине, о том, как любила она Ролфа и как счастливы они были в своем коротком супружестве. Оно расцвело, такое же прекрасное и такое же недолговечное, как роза, которая, едва распустившись, увядает, оставляя после себя лишь память об ушедшей красе. Смерть труслива, она обходит стороной мужчин, бросающих ей вызов, и поражает молодых, красивых и невинных…
Нескончаемое лицедейство сегодняшнего дня утомило нас; к тому же струны наших душ были напряжены, ибо мы желали как можно скорее узнать, что же произошло в Джеймстауне с тех пор, как мы покинули тюрьму, Душевный подъем, который мы чувствовали какое-то время назад, прошел совершенно. Теперь и жалостная песня, и раскачивающиеся фигуры танцовщиц, и то и дело освещающий силуэты деревьев красный свет, и черный саван леса, и тихий горестный шум ветра — все это казалось чужим и вместе с тем таким омертвело древним, как будто мы видели и слышали это с сотворения мира. И вот внезапно на меня напал страх, страх беспричинный и неразумный, который, однако, тяжким камнем лег мне на сердце. Она была в городе, под защитой палисада, под покровительством губернатора, ее окружали мои друзья, а враг мой лежал больной и неспособный причинить ей вред. Опасность грозила не ей, а мне. Я посмеялся над собою, но все же на душе у меня было тягостно, и помышлял я лишь о том, чтобы поскорее пуститься в путь.
Между тем индейские девушки все ускоряли и ускоряли свой танец и теперь уже пели по-другому: весело, пронзительно и красиво. Звуки песни становились все выше и выше, смуглые руки и ноги двигались все быстрее и быстрее; затем, совершенно внезапно, и пение и пляски прекратились. Те, кто только что плясали дерзко и исступленно, словно жрицы какого-то буйного божества, снова превратились в робких смуглых индейских дев, которые смиренно отошли от нас и сели на траву под деревьями. Из темноты раздался взрыв диких воплей, лишь чуть менее устрашающий, чем военный клич. Один миг — и все воины деревни выбежали из тени деревьев и заполнили все пространство, освещенное костром. Они то окружали нас, то плясали вокруг костра, то каждый из них кружился вокруг своей оси, притоптывая и бормоча что-то себе под нос. Большинство из них были разрисованы красным, но некоторые, словно ожившие статуи, выкрасились в белое с головы до пят; были и такие, что натерлись жиром и налепили на него мелкие разноцветные перья. Из-за высоких головных уборов все они казались великанами и все походили на демонов, прыгающих и выплясывающих при свете костра. Как и девушки, они тоже пели, но напев их был груб и прерывался устрашающими воплями. Из хижины позади нас выбежали двое или трое жрецов, шаман и более двух десятков стариков. В руках у них были индейские барабаны, в которые они неистово колотили, и длинные, сделанные из тростника трубы, которые гудели так же воинственно. Старики несли надетое на кол изображение Оуки — чудовищное творение из набитых чем-то шкур и звякающих медных цепей. Когда они присоединились к воинам, пляшущим в свете костра, шум сделался оглушающим. Кто-то подкинул еще бревен в костер, и стало светло как днем. Опечанканоу в круге огня не было, как не было и Нантокуаса.
Мы с Диконом наблюдали за этим грубым зрелищем, как за любым другим увеселением виргинских индейцев — с отвращением и утомлением. Мы знали, что оно продлится большую часть ночи. Оно устраивалось в нашу честь, и какое-то время мы должны были сидеть и выказывать свое удовольствие; но по истечении некоторого срока, когда они напоются и напляшутся до того, что забудут о нашем присутствии, мы сможем уйти спать, и единственными зрителями песен и плясок воинов останутся женщины и дети. Мы ждали этого момента с нетерпением, хотя и не показывали своих чувств толпившимся вокруг нас танцорам и певцам.
Время шло, шум усиливался, и пляски становились все бешенее. Танцоры наносили друг другу удары, прыгая и крутясь вокруг своей оси, по их телам струился пот, а из глоток вырывались хриплые животные крики.