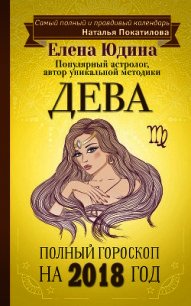Любовник богини - Арсеньева Елена (читать хорошую книгу полностью txt) 📗
«По-русски это называется – отвести глаза, – подумал Василий, невидяще глядя на зеленую шумливую завесу джунглей. – Обморочить, значит. Зачаровать. Леший, например, морочит так, что обойдет кругом, заведет в чащобу и заставит безвыходно блуждать в лесу. Колдуны и даже знахари умеют напускать наваждение или мару на глаза: никто не видит того, что есть наяву, а видит то, чего нет вовсе. Понятно!»
Понятного, конечно, мало было, однако Василий перед святыми иконами мог бы поклясться, что видел в России такого чудодея, который лихо умел отводить глаза!
Как-то раз везли мужики аверинцевские сено с покоса. Василий (которого тогда чаще звали Ваською, барчуком, мешаткою и который был во всякой бочке затычка) скакал рядом верхом на своем кауром коньке Мишке и досадовал, что возы тащатся так медленно. Вдруг они и вовсе стали. Смотрят – торчат посреди дороги мужики, глазеющие на какое-то диво. Остановились возчики; Васька спешился; присмотрелись; не уразумев смысла зрелища, стали других расспрашивать. Отвечают им:
– Вишь ты, цыган сквозь бревно пролезает, во всю длину. Бревно трещит, а он лезет!
У возчиков, да и у Васьки, глаза на лоб полезли. Переглянулись – и ну хохотать:
– Черти-дьяволы! Да он вас морочит: цыган подле бревна лежит и кору дерет. Так и ломит ее – вон, поглядите сами!
Услыхал эти слова цыган, зыркнул на проезжих черным огненным глазом, да и говорит злоехидно:
– А вы чего тут не видали? Глядите-ко на свои возы – ведь горят. Сено на них горит!..
Оглянулись аверинцевские – и в самом деле видят: горит на возах сено! Бросились они к своему добру – перерубили топором гужи, вывели лошадей из оглобель… и вдруг слышат, как позади их вся толпа, что стояла возле цыгана, грохочет раскатистым хохотом. Повернулись возчики да Васька к своим возам – стоят возы как стояли, и ничего на них не горит.
Вот это, конечно, было сделано знатно! Отвели глаза, так отвели! «Кабы этак-то мог Нараян – не страшно было бы, – размышлял Василий. И вдруг подумал с мальчишеским восторгом: – А ну как выйдет у него все, что загадано! Раджа-йог… это тебе небось не кот начихал».
Нет, разумеется, Василий предпочел бы добывать свою любимую в открытом бою – желательно один на один с подлым потомком великого Сиваджи, но в том-то и беда, что это все равно невозможно – честный бой с магараджею Такура! Для магараджи ведь не существует ни чести, ни совести – одна только воля черной Кали определяет все его поступки и владеет его душой. А военная хитрость, предложенная Нараяном, конечно, по наглости превосходила все, что только мог вообразить Василий. Наглость и дерзость – отменные помощники отваге и крепкой руке. И ведь все равно невозможно, никак невозможно другим путем добраться до Вареньки, заставить магараджу вывести ее из того невообразимого тайника, где ее содержат!..
И все-таки Василий еще колебался.
– Если я буду находиться в таком оцепенении, как же смогу выйти из него? – спросил он деловито.
– Твои путы разобьет крик павлина. – Нараян вскинул голову и издал знакомый звук.
У Василия, как всегда, мурашки пошли по коже. Hастанет ли такое время, когда он перестанет слышать в этом крике голос Нараяна?..
– Но, быть может, господин мой Васишта знает другой путь к спасению своей супруги? – вдруг произнес Нараян с неподражаемым выражением глубоко скрытого сочувствия – очень глубоко скрытого под насыпью откровенного ехидства, и раджа Васишта так и взвился, вскинул голову, как благородный боевой скакун, на которого посмели обрушить удар презренной плети.
«Это я тебе еще припомню!» – мысленно посулил он Нараяну, а вслух только хохотнул:
– Позора мы издревле не переживали – стало быть, и начинать не будем. Эх, двум смертям не бывать, одной не миновать!
– Мир погибнет, когда Брама уснет… но до этого еще далеко, – согласился Нараян. – Так пусть же свершится то, что свершиться стремилось!
Чудовищная какофония утихла, и вокруг мертвого раджи Васишты запричитали женские голоса. Плакальщицы, все облаченные в желтое, как будто их самих ждала смерть в пасти Агни, шли хороводом вокруг погребального сооружения, бросая на него желтые цветы и рассыпая шафран.
Красная пыль щедро реяла в воздухе.
«Как бы не чихнуть, – подумал озабоченно Василий. – Вот смеху-то было бы!»
И память, повинуясь своим непредсказуемым причудам, мгновенно вызвала в сознании безумный случай, относящийся к той поре, когда Ваське Аверинцеву было всего одиннадцать лет и слова: «А ну, на спор!» – были для него девизом жизни и определяли все его поступки.
У них в Аверинцеве – родители еще не устали тогда от жизни близ шумной столицы и не укатили в тишайшие арзамасские дали, оставив сына наслаждаться свободою и буйной молодостью, – было несчитано замечательных коней. Отец Василия вел в свое время дружбу с графом Орловым, так что новые русские рысаки тоже велись в его конюшнях. Был среди них один, носивший кличку Орел, и, когда он давал себе волю на рысях, Ваське всегда хотелось пустить с ним наперегонки настоящего орла – чтобы посмотреть, как рысак опередит царя птиц.
Мало ли чего ему, впрочем, хотелось! Разумеется, хотелось именно в это время оказаться сидящим верхом на Орле… и это было самой несбыточной мечтой на свете, потому что отец его, зная шальную натуру сына, пригрозил собственноручно запороть того конюха, который осмелится потрафить своеволию барчука.
Угроза, конечно, была немаленькая, однако конюхи убоялись не доброго своего барина: как известно, та собака, что лает громко, никогда не укусит. Но слово старшего конюха Аггея – тихое, негромкое слово – держало остальных конюших в страхе. Этот мужик посулов на ветер зря не бросал.
– Покалечу так, что ни к одной кобылице боле не подступишься! – посулил он, лишь зачуяв, что стремянной Миня готов склониться на беспрестанные уговоры и щедрые обещания барчука.
Для Мини да и других молодых ребят это была самая страшная угроза – насчет кобылиц… сиречь девок и молодушек. Все знали, что Аггей на ветер слов не бросает, а пытать судьбу никому не хотелось, поэтому Васька попусту обивал пороги конюшни.
Все кони и жеребцы были к его услугам. Все – кроме Орла.
Надо ли перечислять, сколько напастей призывал он на многострадальную голову Аггея, в котором видел лютейшего своего врага! И вот как-то раз, проснувшись поутру, он узнал, что одна из стрел его ненависти все-таки достигла цели: ночью Аггей приказал долго жить. Преставился он в одночасье, безо всякой видимой причины: вечером легла баба на печку с живым мужем, а проснулась рядом с покойником.
«На все воля божья!» – говорили. «Так тебе и надо!» – мстительно щурился Васька, который по младости лет о милосердии знал только то, что оно угодно богу.
Гроб с телом Аггея снесли в часовню и оставили на ночь. Наутро предстояли похороны, а с вечера… а с вечера Ваську угораздило ввязаться с приятелями в лютый спор, итогом которого было предположение, что его сиятельству слабо пойти ночью в церковь и пощекотать мертвеца гусиным перышком в носу.
Васька так и загорелся. Это казалось ему еще более достойной карой угнетателю Аггею, чем даже самая смерть! Ни малого страха он не испытывал, тем паче что дружки (дворовая ребятня) брались так заморочить голову дьячку, что ему станет не до чтения акафистов.
Все было продумано до тонкостей, и, как только дьячок отложил Псалтырь и пошел поглядеть, какая нечистая сила ломится на колокольню с гиком, криком и разбойничьим посвистом, Васька прошмыгнул через загодя приотворенную дверь, взобрался на лавку и, сунув в нос мертвецу гусиное перышко, принялся щекотать окаменелые ноздри, упоенно и бессмысленно приговаривая:
– Теперь будешь знать, как мне Орла не давать? Будешь? Будешь?..
Тени свечей плясали на мертвом лице, и чудилось, будто Аггей корчит отчаянные рожи, пытаясь спастись от щекотки. Ваську и это не пугало – он ворочал да ворочал перышком, пока… пока вдруг не раздалось слабое, задыхающееся: