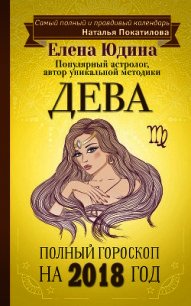Любовник богини - Арсеньева Елена (читать хорошую книгу полностью txt) 📗
– Бери, бери Орла, ирод, ваше сиятельство, только смилуйся – отпусти душу на покаяние!
Вслед за тем раздалось громоподобное чихание – и, раз начав, Аггей уже не мог остановиться и чихал до тех пор, пока его душа, не успевшая далеко отлететь, не воротилась обратно в тело и он смог поднять руку и почесать в носу.
Только теперь до Васьки дошло, что он оживил мертвеца, – и парнишка грянулся, где стоял, в таком глубоком беспамятстве, что, без шуток, его почти отчаялись вернуть в сознание. Ходили слухи, что Аггей советовал графу пощекотать у барчука в носу гусиным перышком: мол, верное средство! – однако неведомо, было ли сие на самом деле или трепались злые языки. Достоверно одно: слово свое Аггей сдержал – и даже барина убедил пойти на поводу у сыновней причуды.
Чутье не обмануло Ваську: они с Орлом с первого мгновения прониклись друг к другу величайшим доверием и вместе не раз обгоняли птиц и ветер. С сыном этого Орла Василий в 12-м году поступил в гусарский полк, но Орленка убили тем же снарядом, осколок которого пробил его хозяину плечо в деле под Бородином.
Да, подумал Василий, если он и в самом деле решит расчихаться, едва ли это закончится столь же идиллически, как чиханье другого «трупа»… но, конечно, ничего такого не случилось бы. Ведь он не испытывал никаких ощущений, не чувствовал ничего – даже своего тела. Надо полагать, оно достаточно напоминает мертвое, если даже магараджа Такура не усомнился в желании Нараяна принести свои прежние убеждения и прежних друзей на алтарь Кали – ведь, строго говоря, нынешний костер возжигается вовсе не ради обманутого Агни, а во имя черной Кали, одержавшей победу над северной богиней Луны. То есть все, и сама Кали в том числе, пребывают в этом убеждении, не зная, что с пустыми руками на сей раз останется не один бедолага Агни!
А странно, конечно, что Нараян, который обещал Василию полнейшее оцепенение всего его существа, оставил способность видеть и думать. Очевидно, для того, чтобы, когда прозвучит крик павлина, Василий не лежал какое-то время бревно бревном, суматошно восклицая, подобно дамочке, только что очнувшейся от обморока: «Ах, где я? Что со мной? И, вообще говоря, кто я?!» – а сразу мог действовать. Для этого он должен наверняка знать, что происходит вокруг, должен все видеть.
И тут он увидел, что ведут его жену.
Сердце Василия тоже осталось живым и страдающим – оно вдруг так рванулось, так заколотилось, что, окажись сейчас рядом внимательный наблюдатель, он уж наверняка решил бы, что труп возвращается к жизни.
«Да, мы обречены друг другу! – мелькнула мысль. – Служение богине Луны обрекло нас на эту роковую любовь, неразрывную связь. Если бы мы никогда не увиделись, никто из нас не смог бы полюбить никого другого, и каждый лунный луч, каждое сновидение были бы для нас орудием пытки! Смешно и думать, что жалкие уловки магараджи могли долго удерживать от любви наши сердца. Я полюбил бы ее, даже увидев среди толпы падших женщин, а она отдала бы мне свое сердце, даже если бы я стоял перед гильотиной, осужденный за самые страшные, нечеловеческие преступления! Да, Нараян прав: вечно служение богине…» Однако не прихоти древней религии предопределили эту неизбывную страсть: ее предрекла русская судьба, предрекли русские звезды-Рожаницы, и где бы, когда бы ни встретил Василий Вареньку, последствия этой встречи были бы одинаковы: неистовый трепет сердца, забвение себя, забвение всего на свете, кроме одного – желания слиться с ней и никогда не размыкать объятий!
Ее вели к нему. Желтое, жарко-желтое сари струилось вокруг стройного тела, и Василию на какой-то безумный миг почудилось, что Агни опередил его и уже обнимает Вареньку. Лицо у нее было таким равнодушным и безучастным, словно ее нимало не волновало ни зрелище, представшее перед глазами, ни участь, уготовленная ей. То ли горе притупило чувство, то ли безысходность; а может быть, она находилась во власти некоего зелья или чар, подобных тем, которые были наведены на Василия Нараяном?..
А вот и он. Как всегда, в белых, снежно-белых одеяниях, чудилось, не подвластных ни пыли, ни грязи, ни крови, будто бы тоже введенных в некий транс чистоты. На тюрбане мрачно мерцает черно-сине-зеленое павлинье перо, словно символ некоего обещания, и Василию при взгляде на это перо стало легче на душе. «Я помню о тебе, – чудилось, услышал он голос Нараяна. – Я помню о тебе и богине!»
По другую сторону от Вареньки шел магараджа Такура. Поразительно, как удавалось этому крошечному человечку сохранять такую величавость! Несмотря на то что магарадже приходилось делать два шажка там, где Варенька и Нараян делали всего один, он выглядел чрезвычайно помпезно. Его одежды казались апогеем великолепия, а несметные драгоценности в лучах солнца сияли так, что слепили глаза.
Его же глаза были сощурены в удовлетворенной блаженной улыбке, которую владыка Такура даже и не думал скрывать. Похоже было, что сегодня один из счастливейших, блаженнейших дней его жизни!
Остановившись на краю помоста, возвышающегося над последним, деревянным ложем Василия, он провозгласил:
Магараджа пылко воздел руки:
Женщины, стоящие поодаль, громко запели, им вторила пронзительная музыка, перекрывая голоса, так что до Василия доносились лишь отдельные слова, однако сердце его дрогнуло: сейчас все начнется!
Магараджа не глядя протянул руку, и жрец вложил в нее факел, однако Нараян что-то негромко сказал, и владыка Такура криво усмехнулся:
– Ну что же, новообращенный, покажи свое искусство! Баване-Кали угодно пламенное усердие, каким ты ознаменовал начало своего служения ей. Зажги же пламенем своей любви к нашей повелительнице этот костер!
С этими словами он вернул жрецу непонятно почему погасший факел, и голос его присоединился к женским визгливым песнопениям.
Нараян, держа Вареньку за руку, осторожно ступил с помоста на прочно уложенные самшитовые поленья, но, вместо того чтобы двигаться дальше, вдруг вскинул руку и обратил пристальный взор на солнце. А в следующее мгновение невольный вопль вырвался у присутствующих, ибо стена огня обрушилась с небес и отгородила погребальное возвышение от зрителей.
…Она не могла быть здесь долго, однако Вареньке казалось, что минул уже целый век. Впрочем, кто знает, сколько времени она пробыла без чувств – с тех пор как смотрела на смешных испуганных обезьянок, потом услышала шорох за спиной, попыталась обернуться – и внезапная тьма нахлынула на нее, будто поток черного, ядовитого дождя, рухнувшего с немилостивых небес?..
Варенька не знала, не помнила, долго ли ее везли и куда: просто вдруг открыла глаза – и увидела себя в этой каморке с круглой зарешеченной дырою в потолке, куда иной раз проникал солнечный луч, и с тяжеленной дверью, через которую ей давали еду, питье, воду для омовений. Ничего, кроме нескольких циновок в углу, где Варенька, свернувшись в клубок, проводила дни и ночи, здесь больше не было, если не считать решетки, разделявшей и без того тесную каморку на две половины. Там, в дальнем углу, тоже были набросаны циновки, однако на них никто не лежал, не корчился, не метался. Варенька была одна в этом зиндане, в этой тюрьме, и никто, ни один из стражников или служанок, которые раз или два раза в день входили в ее узилище, не заговаривал с нею и не отвечал ни слова на ее исступленные расспросы.