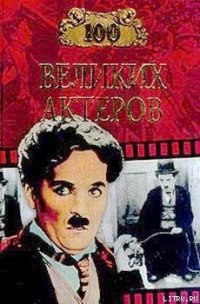Исповедь старого дома - Райт Лариса (бесплатные книги полный формат TXT) 📗
Аня продолжала учиться, подрабатывая между лекциями и этюдами там же, на телевидении. Конечно, сыграла свою роль протекция мужа, но и себя было ей за что похвалить. И прежде всего за то, что в свое время не бунтовала против школьной программы и уделяла достаточное количество времени английскому. Язык интересовал ее в основном потому, что в их доме актрисы и оператора имелись видеомагнитофон и масса кассет, привезенных из командировок или подаренных на зарубежных кинофестивалях. Хотелось посмотреть и понять всё. Аня начала смотреть, а потом и понимать научилась. Если и было ей о чем пожалеть в период работы на дубляже, так это о том, что кассет на испанском языке в доме родителей не было: латиноамериканских сериалов показывали гораздо больше, чем американских или английских.
Аня и Миша были юны и неиспорчены. Их, молодых, наивных, энергичных, хватало на все: учебу, работу, походы в кино, театры, музеи… Редкие выходные проводили увлеченно и вкусно: то ехали в какую-нибудь подмосковную усадьбу, внимательно слушали экскурсовода, а потом, смеясь и дурачась, разыгрывали в приусадебном парке сцены из только что услышанной жизни Тютчева, Шереметева… Бывало, если позволяла погода, отправлялись в импровизированный поход: Аня собирала плетеную корзину вкусностей (сыр, свежий белый хлеб, бутылка дешевого красного вина) и объявляла о начале променада. Миша галантно подхватывал корзину и, целуя жене руку, шаркал ножкой и произносил: «Madame». Шли до ближайшего леса, где в компании таких же фантазеров-ровесников сидели до вечера на каком-нибудь удобном и так кстати поваленном бревнышке: рассказывали анекдоты, пели Гребенщикова и Цоя и спорили до хрипоты о том, кто из бардов самый-самый.
Случалось, ходили в гости. Попадали в разные компании. В скучных чинно сидели за столом, говорили о политике и спешили поскорее распрощаться. В своих, театральных — веселых и беспафосных, — играли в лото и в карты, гадали и тряслись, радостно маша конечностями, под «Modern Talking».
Редко, но все же приглашали друзей к себе, когда были уверены: разговоров о спящей в соседней комнате Леночке не случится.
Периоды полного просветления случались у Мишиной матери не часто. Как правило, им предшествовали недели странного, отрешенного молчания вперемежку со слезами и надрывными, горькими стонами. В такие моменты Миша готов был бежать из дома куда глаза глядят: задерживался допоздна на работе, а в свободные дни придумывал усадебные вылазки или променады. Аня же в силу неопытности пыталась поначалу справиться с этим состоянием свекрови: подходила, произносила слова утешения, гладила по голове, интересовалась поводом для безутешных рыданий. Но, поймав однажды стеклянный невидящий взгляд, осознала, что женщина ее не видит и не слышит, а потому любые слова и движения просто растворятся в пустоте.
— А врачи, Миш? Ее, наверное, лечить надо, — спросила как-то, желая хоть чем-то помочь и мужу, и его маме.
— Думаешь, не лечили? Чего только не делали! Если бы она хоть лекарства принимала, было бы легче, а то она говорит, что пьет, а сама их прячет, я видел. Я, вообще, думаю: нам, наверное, стоит подумать о больнице. Хотя бы на эти периоды. Раньше ведь бабушка за ней смотрела. Только тоже долго не выдержала. Кому понравится родную дочь в таком состоянии видеть? Вот сердце и не выдержало: умерла.
Постороннему человеку могло показаться, что Миша говорил о страшной трагедии буднично и почти равнодушно, но Аня понимала: стоит ему проявить слабость, стоит действительно вспомнить о том, как это больно и страшно, он и сам может провалиться в депрессию и истерзать свое сердце. А для этого сердца не желала Аня ничего иного, кроме счастья. Потому и слушала его спокойно, деловито, без охов и вздохов. Понимала одно: для того, чтобы стать действительно полезной, необходимо знать истинную причину трагедии. Поэтому попросила, ласково тронув его за руку:
— Расскажи мне.
— О чем? — Он делал вид, что не понимает. И она настояла:
— О ком. О Леночке.
И он рассказал о маленькой девочке, родившейся инвалидом. О девочке, которая была послана свыше для того, чтобы подарить матери два года счастья, а затем забрать его с собой.
— Знаешь, Ань, я теперь даже не знаю, каких людей на самом деле считать нормальными. Конечно, я не могу судить, какой Лена могла бы вырасти. Знаю, она не смогла бы ни хорошо читать, ни внятно говорить, да и считать, наверное, не научилась бы. Но в одном я уверен: она никого не смогла бы обидеть. А человек, не способный на зло, видится мне нормальнее остальных. Во всяком случае, я точно могу тебе сказать: даун — это не диагноз, а иная и, возможно, лучшая жизнь. Да, они вызывают непонимание, недовольство и раздражение окружающих, но, по-моему, самое главное не иметь всего этого внутри себя. А моя сестренка была самой доброй на свете. Она улыбалась, протягивала ручки, все время складывала губки бантиком, выпрашивая поцелуй. Она всех нас заразила своей добротой. Если бы она осталась жива, вряд ли изменилась бы, так бы и осталась наивным ребенком. Да, наивным и беспомощным, но любящим весь мир. Но вышло по-другому.
Он замолчал. Замолчал тяжело, нехорошо. Надо было собраться с духом, чтобы заговорить об этом, как о чем-то постороннем, не мучаясь вопросом: почему это случилось со мной?
Это потом, через много лет, смертельно больной священник будет уверять Михаила в том, что происходящим в жизни событиям не следует задавать подобный вопрос. У них надо интересоваться, зачем и для чего они происходят. Но и тогда Михаил не проникнется этим советом. Что уж говорить о совсем молодом человеке, требующем от мира всего только самого лучшего, позитивного и радостного? Он так и не мог смириться с тем, что вышло так, как вышло.
— А как вышло? — осторожно спросила Аня.
— Вышел острый фиброз, редкое генетическое заболевание. Опухоли вырастали гроздьями то в одном месте, то в другом и, в конце концов, просто пережали жизненно важные органы. Медицина бессильна.
Он вновь замолчал. Молчала и Аня. Миша понимал, что она борется с искушением сказать то, что принято говорить в тех случаях, когда умирает человек, являвшийся обузой для всех остальных. Может, и хотела сказать, но не сказала, и он был благодарен жене за это. Это означало, что она поняла: в их случае Лена была не обузой, а лучиком солнца, который должен был освещать его матери всю ее будущую жизнь.
— Мама словно потухла. Вот была в ней жизнь — а потом раз, и нет. Совсем нет, понимаешь?
— А папа? — Снова робкий вопрос.
— Нет у меня никакого папы! — неожиданно грубо буркнул Миша и отвернулся. — Не знаешь, где моя сумка? Мне на работу надо.
— Как всегда, в коридоре, — спокойно ответила Аня.
Проявилась непонятно откуда взявшаяся женская мудрость. Она интуитивно чувствовала, когда необходимо переждать, отступить, затихнуть, а когда стоит обидеться или настоять на своем. Сейчас не стала ни настаивать, ни обижаться — и, конечно, через какое-то время услышала ответ на свой вопрос.
Смерть маленькой дочери стала непоправимым горем, но Мишина мама нашла бы в себе силы пережить это, если бы чувствовала хоть малейшую поддержку мужа. Но «этот человек» (именно так, и никак иначе, называл его теперь Михаил) не думал и не хотел думать ни о ком, кроме себя.
— Он всю жизнь меня терпеть не мог.
— Почему?
— Тебе ли об этом спрашивать…
— Моя мать меня просто не замечает. Но она никого не замечает, кроме себя. Она просто равнодушна — это да. Но все-таки я не могу обвинить ее в ненависти.
— Что ж, может, ты и права. До появления Лены я чувствовал постоянный негатив от «этого человека», а когда она родилась, он как-то успокоился и стал относиться ко мне безразлично. Знаешь, будто обрел желаемое и угомонился. Но когда ее не стало, он словно взбесился. В каждом его взгляде, в каждом жесте, в каждом движении читалось: почему он жив, а Лены нет?
— Странно, Миш. Так любить одного ребенка и ненавидеть другого… Я уверена, если бы моя мама родила десятерых, она бы всех по-прежнему не замечала. До сих пор не знаю, каким чудом я-то на свет появилась.