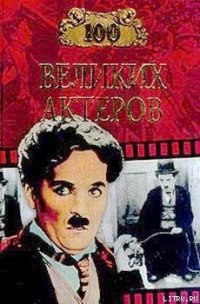Исповедь старого дома - Райт Лариса (бесплатные книги полный формат TXT) 📗
На помощь пришел оператор. Признание жены нисколько его не покоробило. Алю он любил, человеком был легким и незлобным и относился к той породе по-настоящему нормальных мужчин, которые не считают прошлое женщины достойным внимания, обсуждения и тем более осуждения. Появление ребенка в собственной жизни он счел фактом презабавным и даже удобным.
— Пеленок не стирать, ночами не колобродить. Подрощенный экземпляр — что может быть лучше? — объявил оператор жене и отправился в Комарово знакомиться с девочкой. Поездкой остался доволен, а вернувшись, объявил:
— К школе перевезем. И ребенку хорошо, и у тебя достойное объяснение.
— Ты уверен?
— Если бы ты только знала, какое количество киношников оставляет детей на попечение бабушек и дедушек! И никто их за это не травит.
Аля прекрасно знала, что ее-то травить есть за что, но лишь спросила:
— Правда?
— Конечно. Ты просто не интересуешься чужой личной жизнью, а такие истории в нашем мире — на каждом шагу.
Встречались, наверное, и похожие истории, но других все же было больше. В них детей любили, и скучали по ним, и страдали от разлуки. Но что Але до других? Ее жизнь гораздо важнее. А в ее жизни самое главное — свет рампы и окрик «Мотор!», а остальное так, между делом.
Между делом перевезли ребенка в Москву. Бабушку тоже забрали (Комарово хотели продать, не выселять же ее в коммуналку: что скажут люди?). И зажили прежней жизнью: съемки, гастроли, спектакли.
— Нука, ты в каком классе?
— В пятом.
— Обалдеть! Это что же, мне уже скоро тридцать пять? Какой ужас! Иди в свою комнату, чтобы глаза мои тебя не видели! — пугалась Аля, тщательно разглядывала себя в зеркало, бежала на кухню мять клубнику и намазывать ею лицо, как героиня полюбившейся картины. Смывала мякоть и говорила: — Ничего, и в тридцать пять еще королев играют.
— Нука, что интересного было в лагере?
— Родительский день, на который ты, как всегда, не приехала.
— Ты что, обижаешься? На обиженных воду возят. Ты же знаешь: у меня работа.
— А ты знаешь, что у тебя есть дочь?
— Нука, бабушка сказала, ты ходишь в театральную студию. Это еще зачем?
— Мне нравится.
— Что значит «нравится»?
— Я хочу стать актрисой.
Хохотала Аля долго, заливисто и обидно. Со стороны, впрочем, могло показаться, что у ее смеха есть некий резон. По сравнению с красавицей-матерью тринадцатилетняя в то время девочка выглядела гадким утенком. Черты лица были еще не сложившиеся и какие-то размытые. Всего было в избытке: слишком широкий рот, слишком вздернутый нос, слишком густые брови и слишком сильно накрашенные глаза, фигура угловатая и мальчишеская. Ноги, правда, длинные, но до того худые, что болтавшаяся мини-юбка их скорее уродовала, чем украшала. Несмотря на перестройку, в школе такой вид ученицы приводил учителей в ступор и заставлял без устали строчить записки актрисе и названивать домой с требованиями явиться в школу и разобраться с дочерью. Артистка оставалась недоступной. Але эта тема казалась мало занимательной. Вот сообщение о занятиях в театральной студии — это да. Это можно обсудить. Обсудить для того, чтобы объяснить бестолковой девчонке: ей до актрисы как до луны. Поэтому, отсмеявшись, Аля и пустилась в объяснения:
— Хотеть и стать — разные вещи, Нука. Нужны данные, понимаешь? А у тебя их нет.
— С чего ты взяла? Дело не только во внешности!
— Конечно, — вынужденно согласилась Аля. — Нужен талант.
— Почему ты считаешь, что у меня его нет?
— Потому что на детях природа отдыхает.
— Ты даже ни разу не видела, как я играю.
— У меня нет времени ходить на дурацкую самодеятельность.
— А у отца есть.
— Вот пусть он и ходит.
— Он говорит, что у меня получится.
— Говорят, что кур доят…
— Мама, если вы разошлись, это не значит, что он стал плохим оператором и перестал разбираться в качестве актерской игры.
— Конечно же, нет. Я так и не думаю. Но насколько я вижу, разведясь со мной, он не перестал быть тебе отцом. Отцы слепы по отношению к своим дочерям, разве ты не знаешь? Особенно хорошие отцы.
Оператор отцом действительно оказался неплохим. К ребенку, хоть и не родному, по-настоящему привязался, удочерил ее и дал свое отчество, и долгие годы оставался для нее единственным папой. Бабушка по старинке предпочитала держать язык за зубами, мама полагала, что, потянув за ниточку, можно размотать весь клубок, а пресса, конечно, пронюхавшая о судьбе биологического отца девочки, не сговариваясь решила молчать. Так или иначе, Аня не сомневалась в кровном родстве с человеком, которого называла папой. И у нее имелись на это все основания.
— Анютка-незабудка, я дома! — бывало, раздавался с порога веселый голос, и Аня со всех ног летела к двери, подпрыгивала и прижималась щекой к колючей щеке отца. Потом отпрыгивала в сторону и лихо исполняла залихватский танец аборигенов Полинезии, громко выкрикивая:
— Приехал! Приехал!
— Кино или кафе? — спрашивал он, весело подмигивая, и девочка смеялась и требовала всего и сразу: и кафе, и кино, и танцы, и побольше.
Много позже Аня смогла оценить такую самоотверженность. Чаще всего из экспедиций возвращаются уставшими и опустошенными. Желания у всех одинаковые: поесть, поспать и побриться — в общем, отдохнуть и привести себя в порядок на то недолгое время, что отпущено до очередных съемок. И для того, чтобы тратить это драгоценное время на тесное общение с ребенком, необходимо действительно этого хотеть.
А он хотел. Водил Аню в музеи, в Дом кино и в ресторан ВТО, представлял своим друзьям — не последним людям в мире искусства. И делал это с таким видом, будто знакомил их с английской королевой. В его общении с девочкой не было фальши. Аня его по-человечески интересовала. Если бабушка волновалась о том, сыта ли она и здорова ли, а мама не думала вообще ни о чем, то отца занимали ее мысли и взгляды. Он часто интересовался ее мнением, внимательно выслушивал, предлагал вступить в спор — общался на равных. А потом…
Сначала умерла бабушка. Ушла тихо и неожиданно, во сне. Ухода этого, кроме Ани, никто до конца так бы и не заметил, если бы через какое-то время не обнаружили, что в доме нечего есть, белье давно не стирано, а по углам клочьями клубится пыль. У оператора были зоркий глаз и голодный желудок, и при всей неземной любви к актрисе Панкратовой ему хотелось жить в чистоте и сытости. Несколько раз муж намекал, потом просил, умолял и даже грозил. Но не встречались на свете такие угрозы, которые могли заставить Алевтину делать то, к чему ее душа не лежала.
До поры до времени она молчала, потом стала огрызаться и говорить, что она актриса, а не посудомойка. А затем на одном из спектаклей познакомилась с ученым, у которого, помимо титулов и званий, была домработница. Муж-академик, чаще заседавший на конференциях, чем дома, явно выигрывал сравнение с вечно недовольным оператором.
Алевтина махнула хвостом, поставила в паспорте очередные две печати и переехала в шикарные хоромы в сталинском доме: кухня пятнадцать метров, потолки — три, санузел раздельный, квартира многокомнатная, можно потеряться. Тринадцатилетнюю Аню забрала с собой. Нашелся бы вариант оставить — оставила бы, да и девочка говорила о своем желании остаться с папой. Но оператор к моменту развода тоже подошел подготовленным: зря времени не терял, познакомился с симпатичной женщиной и вознамерился стать хорошим отцом двум ее малолетним отпрыскам.
Аню из жизни, конечно, не вычеркивал. Встречался по мере возможности, но не так часто, как ей того хотелось. Любви у него с новой мадам не вышло, ее дети исчезли из его жизни, не успев оставить глубокого следа в душе, и оператор вспомнил, что стареет, жизнь идет, а собственным потомством он так и не обзавелся, — поэтому и занялся поисками той единственной, которая сможет зализать все его душевные раны и осчастливить крепкими семейными узами.
Единственные сменяли одна другую, и только Анины звонки оставались до поры до времени неизменны.