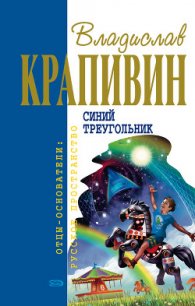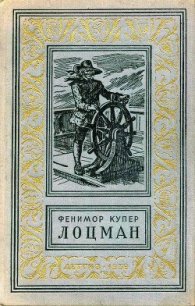Лоцман. Лето кончится не скоро - Крапивин Владислав Петрович (книга регистрации .txt) 📗
— Алло… — неуверенно сказал Шурка. — Гурский… Это я, Полушкин. Гурский, вы меня звали?
Пространства молчали. Зато земной голос оказался неожиданно близким и сварливым. Плачуще-сварливым.
— Тебя зачем, окаянная сила, сюда принесло?
Баба Дуся — маленькая, круглая, в серой рубахе до пят — стояла в двери и мелко крестилась при каждой вспышке. Они загорались в ее толстых очках (без этих очков она — ни шагу).
— Я это… водички попить, — растерянно соврал Шурка.
— Из таза, что ли? Никак спятил…
— Он со стены грохнулся, я и поднял…
— А на башку-то на дурную зачем надел? Не знаешь разве, что молнии по металлу поперед всего лупят?
Да, видимо, она ничего такого не подозревала…
Шурка повесил таз, подошел, щекой лег бабе Дусе на пухлое плечо.
— Ба-а, ты такая храбрая, а грозы боишься, прямо как в детсадовском возрасте… — А в это время опять: бах! И трах, бух, грох!
— Пресвятая Богородица!.. Я храбрая с тем, с кем умею справиться. А с этой небесной страстью что можно сделать-то?
— У нас же громоотвод на крыше… Пойдем спать.
Он повел бабу Дусю в ее комнатушку. Укрыл одеялом, когда легла. Поплотнее задернул на окне занавеску.
— Шур, посиди тут на краешке, а? Одна-то я совсем сомлею со страху.
— Ага, я посижу.
Он присел у бабы Дуси в ногах, щекой прислонился к завиткам на спинке старомодной кровати.
Любил ли он бабку? Трудно сказать. Но все же как-то привязался за весну. Бывало, что скучал, если надолго уходила из дома. Как-никак единственная на свете родня, хотя и дальняя. Если, конечно, Шурку не обманули. Может, просто бабе Дусе заплатили как следует, чтобы признала его за внука. Им ведь ничего не стоит… Может, просто эта Евдокия Леонтьевна подошла им по всем условиям. Хотя бы потому, что оказался у бабки тот большой латунный таз: по нынешним временам вещь редкая, старинная…
Впрочем, Шурка думал об этом без грусти и тревоги, лениво. Что было, то было. И теперь — все к лучшему… В конце концов, баба Дуся его, Шурку, все равно любит как родного. Не по заказу.
Нельзя сказать, чтобы она его баловала. Бывало, иной раз и прикрикнет: «Ты будешь слушать бабку или нет? Вот скручу полотенце да этим полотенцем меж лопаток!..»
Шурка смеялся: «Не-е, баб-Дусь! Я же твой единственный любимый внук».
«Ну дак и что же, что любимый! Любимых-то ишшо больше надо держать в строгости».
Но строгости в бабе Дусе не было. Зато была крепкость характера. Потому что в жизни ей хватило всякого. В молодости побывала замужем, но детей не завела, а муж-пьяница скоро помер. С той поры вела Евдокия Леонтьевна жизнь одинокую. Помыкалась по разным городам и поселкам. Наконец лет двадцать назад получила комнату в этом доме. Комната была просторная. Евдокия Леонтьевна своими руками поставила дощатые стенки — разделила жилплощадь на две каморки да еще ухитрилась выгородить кухоньку.
Было время, сдавала она одну комнатушку студенткам здешнего педучилища. Но потом не стала.
— Уж больно они, нонешние-то, шалапутные стали…
Жила баба Дуся не бедно. До пенсии работала мастерицей в швейном ателье. Потом стали сдавать глаза. Но и сейчас, в своих толстенных очках, баба Дуся иногда садилась за работу по просьбе знакомых и соседок.
Соседи Евдокию Леонтьевну уважали, хотя за глаза порой называли Кадусей. То ли сокращенно от «бабка Дуся», то ли за ее малый рост и округлость — мол, совсем будто кадушка для квашеной капусты.
Да, ростом баба Дуся не вышла — невысокому Шурке чуть выше плеча. Но Шурка все равно признавал ее авторитет и сверху вниз на «баб-Дусю» не смотрел (по крайней мере, в переносном смысле). Разве что во время грозы…
Баба Дуся целыми днями хлопотала по хозяйству. Но Шурку домашними делами не перегружала. Хочешь — лежи на диване и читай, хочешь — гуляй, хочешь — телевизор смотри. Ну, а если посуду помыть да пол подмести — это разве большая работа?
Иногда по вечерам они вместе смотрели футбол. Баба Дуся болела за «Спартак», и Шурка делал вид, что он болеет за ту же команду, хотя было ему все равно. Случалось, что беседовали: бабка рассказывала о своем житье-бытье, а Шурку иногда просила:
— Ты рассказал бы чего-нибудь еще про греческих богатырей. Про Геракла там да про этих, про кентавров. Очень даже занимательно…
Шурка без особой охоты, но не упрямясь, пересказывал ей мифы Эллады. Те, которые любил читать в прежней (уже такой далекой) жизни. Он понимал, что бабу Дусю не так уж волнуют эти истории. Просто она не хотела, чтобы он молчал весь вечер. Боялась, что придут к нему тоскливые мысли.
Но она зря боялась. Шурка жил спокойно и беззаботно. Oн теперь находил интерес и маленькие удовольствия в самых простых вещах. Мог, например, с увлечением наблюдать, как пухнет снежной шапкой на закипающем молоке пена. Радовался зеленым стрелкам овса, прорастающим в цветочном горшке рядом с геранью. Подолгу смотрел на облака, на воробьев, на девочек-дошкольниц, что прыгали на дворе через веревочку.
Ровесников для Шурки в двухэтажном четырехквартирном доме не нашлось. Так, мелкота всякая. Ну и ладно… А может, и это нарочно сделано, чтобы не было лишних контактов?
Гурский почти не беспокоил. За все время только два раза начинала тонко вибрировать на кухне латунь. Шурка хватал таз, опускал на голову.
— Гурский, это вы?
— Как дела, Полушкин?
— Нормально… Я что-то должен сделать?
— Ничего. Пока ничего. Живи спокойно.
— Ага…
Баба Дуся один раз это заметила, удивилась:
— Ты чего бормочешь под посудиной?
— Играю так… В космонавтов.
— Ну, играй, играй…
И Шурка жил дальше. Он чувствовал себя как пассажир на малолюдной пересадочной станции. Прежний поезд ушел, другой придет лишь завтра (или через неделю, или через год), и делать пока абсолютно нечего. Гуляй себе по окрестностям или гляди по сторонам. Слушай, как посвистывают птицы, как голосит в отдалении деревенский петух. Смотри, как растут в щелях рассохшейся платформы ромашки. Радуйся теплому дню и тому, что оставила тебя тоскливая хворь…
Гроза отодвинулась. Сполохи за шторкой были еще яркие, но гремело глухо. Баба Дуся уснула, как девочка, с ладошками под щекой. Очки соскользнули и лежали рядом на подушке.
Шурка осторожно положил очки на стул с бабкиной одеждой. На цыпочках ушел к себе. Лег не укрываясь. Воздух из форточки прошелся по телу мягким крылом. Прохладный, чистый.
…А на Рее всегда такая свежесть и чистота. И люди могут свободно летать над лагунами и водопадами со скалы на скалу.
«Реять над Реей…» Что-то похожее было в каких-то стихах. Только они про море и корабли, а не про планету.
Впрочем, никто, кроме Шурки, не зовет ее Реей. Во-первых, никто не знает. Во-вторых, земного названия у нее просто нет.
«А как она называется, ваша планета?»
«Трудно ответить. «Называется» — это вообще чисто земное понятие. У нас не так…»
«Ну, все-таки…»
«Ладно. Если хочешь, то…» — Ион выдохнул что-то похожее за «Рэ-э». Только звук «р» был не отчетливый, а словно проглоченный, как у англичан.
«Рэ-э», да? А можно «Рея»? У древних греков так звали мать Посейдона, бога морей. У вас ведь там сплошь моря…»
«Можно, если хочешь. Конечно… Сколько у вас, у землян, всяких сказок. Хоть какая-то реальность в них есть?»
«Какая-то есть. Обязательно… Не все у нас плохо, не думайте!»
«Я и не думаю, что все… Спи, Полушкин».
2. Отражение
Утром на улице пахло мокрыми листьями и синели лужи. В них плавали обломанные тополиные ветки.
Шурка выбрал самую большую лужу и пошел по краю. Это занятие всегда ему нравилось. Идешь будто над бездонным провалом, где в фиолетовой глубине висят маленькие желтые облака. Тоже напоминает Рею. По крайней мере, так Шурке кажется.
Если прыгнуть в такой провал, сперва будет жуть падения, но потом безопасно опустишься в пушистое облако — словно в перину. Однако Шурка не прыгал. Чтобы не случилось разочарования.