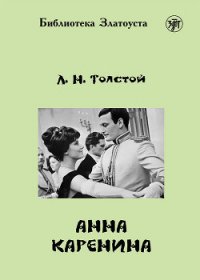Костяные часы - Митчелл Дэвид (лучшие книги без регистрации txt) 📗
Мелодичный голос Иммакюле Константен убаюкивает, точно шелест ночного дождя.
У тишины в часовне Королевского колледжа явно имеется собственное мнение.
– А чего же вы, собственно, хотите? – помолчав, говорю я. – В договор с жизнью включен пункт о смертности. Всем нам когда-нибудь придется умереть. Но пока ты жив, властвовать над другими куда приятней, чем находиться в их власти.
– Что живо, то в один прекрасный день умрет – так гласит договор с жизнью, правда? Но вам следует знать, что в исключительных случаях этот нерушимый пункт договора может быть… переписан.
Я гляжу в ее спокойное и серьезное лицо.
– Вы это о чем? О занятиях спортом? О вегетарианских диетах? О пересадке органов?
– О той форме власти, которая позволяет отсрочивать смерть навечно.
Да, мисс Константен, безусловно, высший класс, но если она ушиблена сайентологией или криогенетикой, то ей придется понять, что меня подобной чушью не проймешь.
– А вы, случайно, не пересекли границу Страны Безумцев?
– Эта страна не знает границ.
– Но вы говорите о бессмертии так, словно это некая реальность.
– Нет, я говорю не о бессмертии, а о вечной отсрочке смерти.
– Постойте, вас что, Фицсиммонс послал? Или Ричард Чизмен? Вы что, с ними сговорились?
– Нет. Я просто пытаюсь заронить в вас семя…
Да уж, это, пожалуй, слишком креативно для очередной дурацкой шутки Фицсиммонса.
– Семя чего? Что из него вырастет? Можно поточнее?
– Семя вашего исцеления.
Ее серьезность вызывает тревогу.
– Но я не болен!
– Смерть вписана в вашу клеточную структуру, а вы утверждаете, что не больны? Посмотрите на эту картину. Посмотрите, посмотрите. – Она кивает в сторону «Поклонения волхвов». Я подчиняюсь. Я всегда буду ей подчиняться. – Тринадцать человек, если их пересчитать. Как на Тайной вечере. Пастухи, волхвы, родственники. Посмотрите внимательно на их лица, по очереди на каждого. Кто из них верит, что этот новорожденный пупс сумеет победить смерть? Кто хочет доказательств? Кто считает Мессию лжепророком? Кто знает, что он изображен на картине? Что на него смотрят? А кто из них смотрит на вас?
Гоблин-охранник машет рукой у меня перед носом:
– Эй, очнись! Извини, что побеспокоил, но нельзя ли закончить ваши дела со Всевышним завтра?
Моя первая мысль: «Да как он смеет?!» Вторая мысль не появляется, потому что меня мутит от его дыхания, воняющего горгондзолой и скипидаром.
– Мы закрываемся, – говорит он.
– Но часовня открыта до шести! – возражаю я.
– Ну… да-а. Точно, до шести. А сейчас сколько?
И тут я замечаю, что за окнами – сияющая мгла.
Без двух минут шесть – утверждают часы. Не может быть! Ведь только что было четыре. Я пытаюсь за внушительным брюхом своего мучителя разглядеть Иммакюле Константен, но ее нет. И, судя по всему, давно. Не может быть! Она же только что просила меня взглянуть на картину Рубенса, всего несколько секунд назад! Я посмотрел, и…
…Я морщу лоб, гляжу на гоблина-охранника, ожидая ответа.
– Шесть часов, пора уходить, – заявляет он. – Пора, пора. Расписание есть расписание.
Он стучит по циферблату своих наручных часов, тычет их мне в нос, хотя и вверх тормашками; на дешевом циферблате отчетливо видно: 17:59.
– Но… – бормочу я, да какое уж тут «но»? Не может быть, чтобы два часа куда-то провалились за две минуты! – А где… – сиплю я, – женщина? Она вон там сидела?
Охранник смотрит в указанном направлении, спрашивает:
– Когда? В этом году?
– Сегодня, примерно… в половине четвертого. В таком темно-синем пальто. Красавица.
Гоблин складывает на груди короткие руки и заявляет:
– Будь так любезен, подними свою одурманенную травкой задницу и двигай отсюда, а мне домой пора; у меня, между прочим, семья имеется.
Ричард Чизмен, Доминик Фицсиммонс, Олли Куинн, Джонни Пенхалигон и я чокаемся стаканами и бутылками, а вокруг пьяно ревут и бубнят посетители «Погребенного епископа», паба на булыжной улочке у западных ворот Хамбер-колледжа. В пабе не протолкнуться: завтра начинается рождественский исход, и нам чудом удается найти столик в самом дальнем углу. Я одним духом осушаю стопку «Килмагун спешиал резерв», и виски тяжелым комом соскальзывает в горло, прожигая насквозь, от миндалин до самого желудка, а потом начинает растворять тревогу, терзающую меня с тех пор, как пару часов назад я очнулся в часовне, совершенно не понимая, что произошло. Мысленно убеждаю себя, что месяц выдался на редкость тяжелый: сдача письменных работ, жесткие сроки, бесконечное нытье Марианджелы, а на прошлой неделе еще и две ночные попойки у Жаба, чтобы улестить Джонни Пенхалигона. Внезапная потеря времени – не симптом опухоли мозга, да и вообще, я пока не падаю без причины и не брожу нагишом по крышам колледжа, среди каминных труб. Я забыл о времени, сидя в красивейшей позднеготической церкви Великобритании и размышляя о шедевре Рубенса, – подобное окружение создано для того, чтобы заставить человека утратить счет часам. Олли Куинн опускает на столешницу полупустую кружку и тихонько рыгает.
– Лэм, ты разобрался, как Рональд Рейган выиграл холодную войну?
Я его еле слышу: молодые консерваторы Хамбер-колледжа в соседнем зале громко подвывают бессмертному рождественскому хиту Клиффа Ричарда «Mistletoe and Wine» [19].
– Ага, все изложил и, стряхнув с листов вековую пыль, подсунул профессору Дьюи под дверь, – киваю я.
– Не знаю, как ты целых три года эту политику долбишь. – Ричард Чизмен утирает с хемингуэевской бородки пену, оставленную «Гиннессом». – Уж лучше обрезание с помощью терки для сыра.
– Жаль, что ты ужин пропустил, – говорит Фицсиммонс. – На десерт пошли остатки нарнийской травки Джонни. Не хватало еще, чтобы уборщица, приводя в порядок его комнату в конце триместра, наткнулась на его запасы, приняла их за крысиные катышки и выбросила вместе с липкими скаутскими журнальчиками. – Джонни Пенхалигон, не отрываясь от кружки с горьким пивом, показывает Фицсиммонсу средний палец, дергает узловатым кадыком; я лениво представляю, как провожу по нему опасной бритвой. Фицсиммонс фыркает и поворачивается к Чизмену: – А где же твой приятель, загадочное дитя Востока в кожаных штанах?
Чизмен косится на часы:
– В тридцати тысячах футов над Сибирью, перевоплощается в ревностного конфуцианина и примерного старшего сына. Если бы Сек все еще оставался в городе, я не стал бы почем зря рисковать своей репутацией в компании ярых гетеросексуалов. Я теперь убежденный рисолюб. Фиц, угости-ка меня канцерогенной палочкой, дай мне в зубы, чтоб дым пошел, – американцы почему-то обожают это выражение.
– Здесь курить бесполезно, – морщится Олли Куинн, извечный сторонник борьбы с курением. – Все равно дымом дышим.
– Ты ж бросаешь. – Фицсиммонс протягивает Чизмену пачку «Данхилла»; мы с Пенхалигоном тоже берем по сигарете.
– Успеется, – отмахивается Чизмен. – Джонни, будь так любезен, дай зажигалку Германа Геринга, она прямо-таки источает эманации зла.
Пенхалигон вытаскивает увесистую зажигалку времен Третьего рейха. Самую настоящую, приобретенную его дядей в Дрездене. На аукционе такая штучка улетает за три тысячи фунтов.
– А где сегодня РЧП? – спрашивает Пенхалигон.
– Будущий лорд Руфус Четвинд-Питт сегодня решил пополнить запасы наркоты, – отвечает Фицсиммонс. – Какая жалость, что это не академическая дисциплина.
– Зато это надежный, защищенный от спада сектор нашей экономики, – замечаю я.
– На будущий год, – говорит Олли Куинн, сдирая наклейку с бутылки безалкогольного пива, – мы выйдем в реальный мир и начнем зарабатывать себе на жизнь.
– Вот-вот, жду не дождусь, – хмыкает Фицсиммонс, поглаживая ямку на подбородке. – Презираю бедность.
– Ага, у меня аж сердце кровью обливается. – Ричард Чизмен зажимает сигарету уголком губ, прямо как Серж Генсбур. – Твой «порше», прикид от Версаче и двадцатикомнатное родовое гнездо в Котсуолде производят на окружающих абсолютно неверное впечатление.