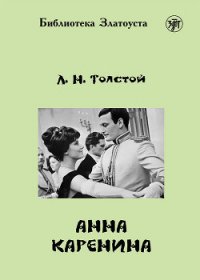Костяные часы - Митчелл Дэвид (лучшие книги без регистрации txt) 📗
– Черт возьми, Гвин! Он бил тебя, ребенка?
– Да, он всегда был таким. И его папаша вел себя так же.
– И твоя ма от него не ушла? Все это ему спускала?
– Знаешь, этого никогда не могут понять те, кто на себе этого не испытал. Считай, тебе здорово повезло. Подчинение всегда основано на страхе. Если боишься наказания, то не станешь возражать, не дашь отпор, не сбежишь. Все безропотно принимаешь, со всем соглашаешься, чтобы таким способом выжить. Постепенно это становится нормальным. Чудовищным, но все-таки нормальным. Чудовищным именно потому, что считается чем-то нормальным. Ты, наверное, скажешь, что, мол, не давая отпор, позволяешь над собой издеваться, но дело в том, что если тебя всю жизнь воспитывали в страхе, то ты не в состоянии противостоять мучителю. Жертвами становятся не из трусости. Посторонним невдомек, сколько мужества требуется для того, чтобы выжить в подобных условиях. Моей маме некуда было идти, понимаешь? Ни братьев, ни сестер. Родители ее умерли еще до того, как она вышла замуж. Отцовские правила навсегда отрезали нас от окружающих. Подружишься с кем-то в деревне – значит пренебрегаешь родным домом, а стало быть, заслуживаешь трубы. От страха я даже в школе друзей не заводила. Приглашать гостей в дом не полагалось, ходить по гостям – тоже, потому что так поступают только неблагодарные свиньи, для которых одно средство – труба. В общем, его безумие было весьма последовательным.
Алан Уолл уходит в дом. С рубашки и джинсов на веревке капает вода.
– А ты или твоя ма не могли на него заявить?
– Кому заявить? Отец пел в бангорском хоре вместе с судьей и начальником полиции. Он совершенно очаровал моих школьных учителей. Жаловаться в службу социальных проблем? Но тут наше слово было против его слова, а отец наш, между прочим, сражался в Корее, получил награду за храбрость. Мама была совершенно опустошенной, постоянно сидела на валиуме, а из меня, затюканной девчонки, двух слов было не вытянуть. А напоследок, – горько усмехается Гвин, – он пригрозил, что убьет и маму, и меня, если я попытаюсь очернить его имя. И подробно объяснил, как именно это сделает, будто зачитал вслух инструкцию из серии «Сделай сам». И как легко ему потом удастся выйти сухим из воды. Не хочу даже говорить, как именно он надо мной надругался, ты, наверное, и сама догадываешься. Мне было пятнадцать… – напряженным голосом произносит Гвин, и я уже не рада, что мы вообще завели этот разговор. – Столько же, сколько тебе сейчас. – (Я невольно киваю.) – С тех пор уже пять лет прошло. Мама обо всем знала – домик-то маленький, – но не осмелилась его остановить. А на следующее утро я, как обычно, ушла в школу, сунув в спортивную сумку еще кое-какую свою одежду, и с того дня в Уэльс ни ногой. У тебя сигареты еще остались?
– Гэрины все кончились, будем мои курить.
– Если честно, мне «Ротманс» больше нравятся.
Я протягиваю ей пачку:
– Моя настоящая фамилия – Сайкс.
Она кивает:
– Холли Сайкс, значит. А я – Гвин Бишоп.
– Я думала, ты Гвин Льюис.
– В обеих фамилиях есть буква «и».
– А что было после того, как ты уехала из Уэльса?
– Манчестер, Бирмингем, полубездомная, а потом и вовсе бездомная жизнь. В Бирмингеме я попрошайничала в торговом центре «Буллринг». Спала в чужих домах, вместе со сквоттерами или у друзей, которые вели себя совсем не по-дружески. В общем, прозябала. Если честно, то чудом выжила. А второе чудо – то, что меня не отправили домой. Понимаешь, пока тебе нет восемнадцати, сотрудники социальной службы обязаны сдать тебя местным властям, а те, естественно, вернут тебя домой. Мне до сих пор снятся кошмары, будто меня приводят к отцу, он приветствует блудную дочь и полицейский смотрит на душещипательную сцену и думает: «Все хорошо, что хорошо кончается», а отец запирает за ним дверь и… Все, хватит. Короче, я рассказала тебе эту светлую и радостную историю, чтобы ты поняла, как должно быть плохо дома, чтобы решиться на побег. Как опустишься на самое дно, так оттуда не выберешься. Пять лет прошло, и я только сейчас стала надеяться, что самое плохое уже позади. Вот я смотрю на тебя и… – Она умолкает, потому что прямо перед нами резко тормозит какой-то велосипедист.
– Сайкс!
Эд Брубек? Ну да, Эд Брубек!
– Ты что здесь делаешь?
Волосы у него встопорщенные, мокрые от пота.
– Тебя ищу.
– На велосипеде? А как же школа?
– Утром сдал экзамен по математике и теперь свободен. Сел с велосипедом на поезд, доехал до Ширнесса, а потом сюда прикатил.
– За бейсболкой, что ли?
– Да фиг с ней, с бейсболкой, Сайкс, нам нужно…
– Погоди, а откуда ты знаешь, где меня искать?
– Я и не знал, но потом вспомнил, что я тебе рассказывал про Гэбриела Харти, ну и позвонил ему. Он, правда, сказал, что никакой Холли Сайкс у него нет, есть только некая Холли Ротманс. Я сообразил, что это, наверное, ты, и оказался прав.
– Да уж, ничего не скажешь, – бормочет Гвин.
– Брубек, это Гвин, – говорю я. – Гвин, это Брубек.
Они кивают друг другу, и Брубек снова поворачивается ко мне:
– Слушай, тут дело такое…
Гвин встает.
– Ладно, увидимся в пентхаусе, – говорит она, подмигивает и удаляется легкой походкой.
А я сердито говорю Брубеку:
– Да слышала я!
Он изумленно смотрит на меня:
– Тогда почему ты все еще здесь?
– Об этом по «Радио Кент» сообщили. Ну, о тройном убийстве. В деревне Айвейд.
– Да я совсем не об этом! – Брубек прикусывает губу. – Твой брат тоже здесь?
– Джеко? Нет, конечно. Что ему тут делать?
Прибегает Саба, облаивает Брубека, а он смятенно молчит, как человек, принесший ужасную весть.
– Джеко пропал.
У меня голова идет кругом.
– Заткнись! – велит Брубек Сабе, и та умолкает.
– Когда? – еле слышно спрашиваю я.
– В ночь с субботы на воскресенье.
– Джеко? – Наверное, мне послышалось. – Пропал? Но… Как пропал? Ведь паб запирают на ночь.
– Полиция с утра пораньше заявилась в школу, и мистер Никсон пришел прямо на экзамен и спросил, не знает ли кто, где ты. Я чуть было не сказал. А потом… В общем, я здесь. Эй, Сайкс? Ты меня слышишь?
Меня охватывает противное зыбкое ощущение, как в лифте, когда кажется, что пол вот-вот уйдет из-под ног.
– Слышу. Но я не видела Джеко с субботнего утра…
– Я-то знаю, а полицейские – нет. Они решили, что вы с Джеко сговорились и сбежали вместе.
– Но это же бред, Брубек… ты же знаешь, что бред!
– Да, знаю! Но лучше, если ты им это скажешь, иначе они так и не начнут искать Джеко по-настоящему.
Мне мерещатся то лондонские поезда, то полицейские водолазы, обшаривающие дно Темзы, то убийца среди зеленых изгородей.
– Но Джеко даже не знает, где я! – Меня трясет, и небо заваливается набок, и голова раскалывается от боли. – Он странный мальчик и… и… и…
– Слушай… – Брубек подхватывает меня, поддерживает мне голову ладонью, будто собирается поцеловать, только, конечно же, не лезет ко мне с поцелуями. – Послушай, Холли, бери свои пожитки. Поедем в Грейвзенд. На моем велосипеде, а потом на поезде. Я тебе помогу. Обещаю. Давай, поехали. Прямо сейчас.
Смирны горькой запах благой… 1991

13 декабря
– Гулче, тенора! – велит хормейстер. – Напрягаем диафрагмы – и ходуном, ходуном, ну же! Дисканты, не нажимайте так на «с-с-с» – вы все-таки не труппа Голлумов. И приглушите «ц». Эдриен Би – раз уж ты берешь верхнее до в «Уймитесь, печальные токи», значит сможешь взять его и здесь. Еще раз, проникновенно. И раз, и два, и…
Шестнадцать хористов Королевского колледжа, с безжалостно обкорнанными патлами, ушастых, как летучие мыши, и четырнадцать стипендиатов хора выдыхают в унисон: