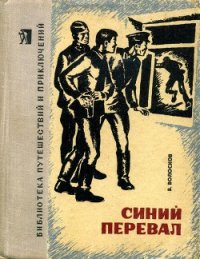Где-то на Северном Донце - Волосков Владимир Васильевич (читать книги без регистрации txt) 📗
— При чем тут Савеленко… — досадливо бурчит Глинин. — Он по-своему прав. Я немного погорячился… Не надо было. Полковник и сам понял, что отдал ошибочный приказ. И вообще я ему не завидую… Ему сейчас ой как не сладко.
— Да, не сладко, — соглашается Лепешев, вспомнив, с какой грустью прощался с ним полковник у реки, как ссутулился, шагнув на плот.
— Он неплохой человек, наш комдив. С заскоками, но неплохой, — продолжает Глинин. — Только… только выбрал он себе не ту профессию. Не по призванию. Быть кадровым командиром — тоже нужно иметь призвание. Иначе…
— Вроде бы неплохой, — соглашается Лепешев. — Но… Но тем не менее я обязан завтра доставить вас в штаб дивизии.
— Знаю. — Глинин вздыхает. — Ничего. Я сам точно так же поступил бы на его месте. Ничего… Не такое со мной бывало.
— Но все же…
— Сколько вам лет? — неожиданно теплым голосом спрашивает Глинин.
— Мне? — Лепешев теряется. — Мне… двадцать три.
— А мне сорок шесть… — Лепешеву кажется, что Глинин грустно и задумчиво улыбается в темноте. — Я как раз вдвое старше тебя, Коля… — Это неожиданное «ты» не вызывает в Лепешеве протеста. — И я многое пережил. Четыре войны не в счет.
— Почему четыре?
— Испанскую считаю. — Глинин долго молчит, что-то вспоминая и обдумывая, потом предлагает: — Если тебе это интересно, я могу рассказать об одном человеке… Тебе первому, может быть, последнему. Мало ли что может случиться…
Лепешев понимает, о каком человеке хочет рассказать Глинин, и еще сильнее стискивает его пальцы.
— Я не считаю это обязательным. Не считаю, Василий Степанович. Но если вы находите нужным, если станет легче…
— Пожалуй. Хочу, чтобы стало легче. — Глинин опять ненадолго замолкает, потом незнакомым, подобревшим голосом рассказывает: — Жил один человек. Воевал в первую мировую прапорщиком, затем воевал в гражданскую командиром полка, комиссаром бригады… В общем, кадровый военный. После победы Советской власти этот военный учился в академиях, командовал бригадой, дивизией и даже корпусом. Занимал еще ряд важных армейских должностей. Когда началась гражданская война в Испании, он добровольно поехал туда защищать свободу, бороться с фашизмом. А потом… — Глинин осекается.
— Что потом?
— Потом была финская кампания…
— Ну и что?
Глинин опять долго молчит, размышляя, очевидно, о чем-то трудном и важном.
Лепешеву начинает казаться, что помкомвзвода уже жалеет о своей откровенности, как Глинин вдруг говорит без всякой связи с ранее сказанным:
— Плохо, когда человеку все легко дается. Оп расхолаживается, психологически разоружается, теряет чувство самоконтроля, лишается самого главного, необходимого всякому настоящему человеку, — способности знать себе реальную цену. Во всем. И в деле, и в обыденной жизни, даже в дружбе и любви… — Глинин глухо кашляет, щупает повязку, длинные фразы даются ему трудно. — Мне слишком легко все давалось. Повышение следовало за повышением, среди сослуживцев я считался порядочным человеком, добрым товарищем и способным командиром… В конце концов я сам в это поверил. Без оглядки…
Смутное беспокойство охватывает Лепешева, он сильнее стискивает пальцы помкомвзвода.
— Так вот… Во время одной из операций дивизия, которой я командовал, действовала совместно с другими соединениями. Взаимодействие в должной степени отработано не было, условия наступления были тяжелыми — в итоге поставленных задач мы не решили, а соседи понесли потери. И тут в горячке командование обвинило меня и мой штаб в провале операции, все напрасные жертвы отнесло на мой счет. Ты знаешь, как это бывает на фронте.
— Представляю, — Лепешеву вспоминается, как ему самому даже в мелких взводных делах случалось пороть горячку.
— Позже, когда остыли, выяснилось, что ни я, ни мой штаб не виновны, что ошибки и медлительность допустили другие командиры, а в тот момент… Я чувствовал, что сделал все возможное, и потому очень обиделся. Не захотел понять обстановку, не захотел понять состояние других, не захотел подождать. Нагрубил командованию, оскорбил некоторых товарищей. Знаешь, конечно, что из этого получается…
— Знаю.
Глинин тяжело вздыхает, заглядывает в амбразуру, и Лепешеву почему-то кажется, что помкомвзвода прячет от него лицо.
— Разгорелся конфликт. Меня откомандировали из действующей армии в наркомат, а там кому-то пришла в голову идея назначить меня начальником тыла одного из военных округов. Как я ни протестовал — приказ есть приказ. Пришлось ехать…
— И справились?
— Куда там… — Глинин безнадежно машет свободной рукой. — Служба тыла — служба сложная, нелегкая служба. Без специальной подготовки в ней долго не накомандуешь. Так и случилось со мной. Запутался, нарубал дров…
— Сияли?
— Сам подал рапорт. Уволили в запас. Но этому предшествовало еще кое-что…
— Что именно? — спрашивает Лепешев, чувствуя, что Глинин приблизился к главному.
— Ты любил когда-нибудь? По-настоящему.
Вопрос настолько неожидан, что Лепешев отпускает пальцы собеседника. Помявшись, лейтенант все-таки признается:
— Иллюзия — была. Любви — не было.
— А ко мне, к несчастью, пришло настоящее, — опять вздыхает Глинин. Ему больно говорить — Лепешев остро чувствует это. — Она была врачом в моей дивизии и не ответила взаимностью. Сам понимаешь, как неприятно сорокатрехлетнему холостяку вдруг открыть, что мужскую привлекательность не заменят ни высокое воинское звание, ни высокая должность. О таком раньше не думалось… за ненадобностью. Она напропалую флиртовала с молодыми лейтенантами, со мной же держалась строго официально, а я не понимал, что это игра, что меня, как это говорится в просторечье… элементарно обрабатывают. Расчетливо, цинично. Под пожилого влюбленного карася подводят надежный сачок… Это я осознал позже, а тогда… Проклятое, дьявольское чувство. Стыдно вспомнить, но она мне снилась, я готов был простить ей все прошлые похождения. И простил, когда она демобилизовалась и неожиданно приехала ко мне. Это было последним шагом к окончательному падению.
— Какому падению?
— Человеческому. На гражданке, учитывая последнюю воинскую должность, мне оказали доверие — назначили заведующим областным торговым отделом. Она не позволила мне отказаться. Я не сумел… — Голос Глинина становится еще глуше от трудно сдерживаемой ненависти. — Проклятое, низкое чувство. Ведь умом я все понимал, а все-таки почему-то поверил ее уверениям в любви. Знал — взаимности нет и не было, а верил. Она внушила мне иллюзию счастья, внушила, что я — талантливый, чистый и умный — просто-напросто жертва людских интриг, что попросту не умею жить… Да, было так, Коля. Умом верить в одни принципы, а жить по иным, по ее принципам… Проклятое рабское чувство. Ты молодой, чистый, ты не знаешь такого чувства!
— Не знаю, — честно признается Лепешев, наполняясь жалостью к собеседнику. Он старается разглядеть выражение лица Глинина. Но в блиндаже все еще очень темно, хотя в узкую щель амбразуры пробивается мерклая полоска света.
— И не дай бог узнать. Только падшего, разоружившегося человека может одолеть такое чувство. Я всегда считал себя волевым, честным, а тут… Таскался с ней по портным и вечеринкам. На столе и дома не переводились вина… Все кончилось так, как и должно было кончиться. Когда иссякли холостяцкие сбережения, она от моего имени назанимала у товарищей. Мне пришлось покрыть долг чести казенными. Рассчитывал вернуть, но в таких случаях всегда бывает ревизия…
У Лепешева вырывается наивное:
— Так какого черта вы ее не гнали от себя?!
— Милый Коля, — горько усмехается Глинин. — Если б это было сейчас — я бы не задумываясь пристрелил ее. Таким самкам, расчетливо торгующим своим телом, нет места на нашей земле! — В голосе его звучит металл, жестокость.
— Пожалуй, — соглашается Лепешев. После всего только что услышанного ему не по себе, и о предстоящей немецкой атаке он уже думает без прежней тревоги. Сложное чувство недоумения терзает его. Услышанное заставляет подумать, что, несмотря на свои двадцать три года, он, в сущности, не понимает многого, происходящего в жизни.