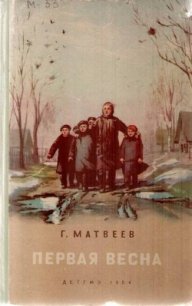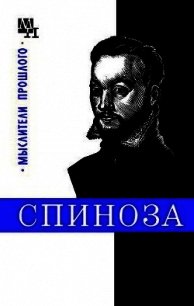Крушение - Соколов Василий Дмитриевич (серия книг .TXT, .FB2) 📗
Горло сдавила сухая спазма. «Мертв, — подумал Иван Мартынович — И почему мне показалось, что ранен, просит воды… Это же я сам просил пить. Сам!» Медленно взвалил труп на плечи, медленно подошел к кургану.
— Товарищ комиссар, копать пора, — раздался голос из–за спины. — К утру нужно управиться, иначе… — Подошедший не досказал, но его предостережение, что будет иначе, вырвало комиссара из состояния задумчивости. Подымая голову, Иван Мартынович оглянулся: возле него стоял старшина, лицо его было покрыто частой вязью морщинок, в правой руке он держал лопату, а в левой, под мышкой, — отливающую надраенной медью трубу. Старшина был в духовом оркестре. Во время походов, иногда перед самым сражением оркестр играл бравурные марши, а после боя занимался погребением.
Где прикажете рыть? — переспросил старшина.
Иван Мартынович, не ответив, кивнул на курган.
Испокон веку курганы становились местами воинских погребений и нетленной славы. Курганы — сколько их раскинуто в здешних степях! — седеют молчаливо и гордо, их покой караулят степные орлы…
Команда — восемнадцать музыкантов — копает лопата в лопату, напряженно и без роздыха. Площадка, где стояли орудия на прямой наводке, теперь должна быть могилой.
Как, товарищ комиссар, нормально? — спросил старшина, вытирая мокрое лицо.
Гребенников вскинул на него взгляд, полный недоумения:
— Откуда мне знать?
— Нет, я не о том… Поместятся ли все? — проговорил старшина и добавил скрипучим голом: — Надо бы, кажется, поглубже взять. — И опять принялся рыть, теперь уже не вширь, а в глубину, выкидывая через голову донную землю.
А Гребенников глядел на могилу, и тяжелые мысли сдавливали ему голову.
На фронте по–разному хоронят людей.
Солдаты в бой идут вместе и в могилу ложатся сообща. К смерти на войне привыкают, как к чему–то естественному, не обескураживающему никого явлению; слез не льют, даже близкие побратимы глотают закипевшую слезу, и поминок не устраивают, потому что знают, что такая же участь может постигнуть -и других…
Уже светло. Убитых опускали в могилу, стараясь уложить поплотнее в рядках и ногами на запад, будто и от них, мертвых, ждали, что они еще шагнут вперед…
Прежде чем опустить очередного, выбирали у него все из карманов: немудреные вещички, документы письма, фотокарточки — и все это передавали комиссару.
Гребенников пробегал глазами, не задерживая внимание, лишь бы только знать, есть ли адрес, потом кивал головой, что было сигналом для похоронной команды опускать погибшего.
Когда рядки заполнили могилу, Иван Мартынович встал, приблизился к краю обширной могилы, постоял в скорбной задумчивости, промолвил:
— Мы не простим фашистам… Они еще поплатятся за вашу гибель. — Хотел что–то еще сказать, но не сказал, лишь шевельнул губами, чувствуя в сдавленном горле нехватку воздуха, медленно снял с головы каску, медленно опустился и, зачерпнув полную горсть земли, бросил в могилу. За ним последовали другие, тоже бросая горстями.
…Уже давно рассветлелось, а Иван Мартынович не уходил.
Сложные чувства рождали в нем и эта могила, и эти люди — они вновь оживали и смотрели с обложек маленьких красных и серых билетов, говорящих о принадлежности их к партии и комсомолу, заявляли о себе скупыми и точными словами, строго заключенными в параграфы красноармейских книжек, оставляли о себе память в виде неотправленных писем, дневников и просто нацарапанных наспех мыслей в блокнотах; редко у кого не находили за пазухой исполненные, по обыкновению небрежно, бродячими фотографами, но дорогие сердцу фотокарточки матерей, жен, невест, возлюбленных, с которыми не хотели ни на миг расстаться, но война жестоко и неумолимо заставила расстаться, оборвав все нити надежд, свершений, встреч, нравственных чувств. Документы, письма, фотокарточки — все, решительно все говорило о них, как о живых, а в действительности они уже были мертвые, и потому, что были мертвые, особенно остро заявляли о себе, отдавая опыт, жаркую мысль и крик души тем, кто стоял передними, кто остался в живых… Они заслонили собой Россию, и Россия будет вечно им благодарна… Эти сложные мысли уносил с собой, как завещание, как память сердца, комиссар Гребенников, медленно и тяжело отходя от свежей, залегшей у безвестного кургана могилы…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Полковник Шмелев, не подчинившись воле старшего начальника и, в сущности, не захотев поднимать людей на дневной штурм, который, как и предвидел он, был поспешным и пагубным, знал, на что идет и чем это пахнет… Частично оправдывало его то, что он не сам отказался от дневной безумной атаки, и, если бы Ломов не отстранил его от управления боем, самому Шмелеву, скомкав в груди совесть, вероятно, пришлось бы бросать людей под огонь, на верную смерть. Он понимал, что в трудный час войны не считаются с жертвами, о потерях, пусть и напрасных, происшедших по чьей–то вине, будут вспоминать и тужить потом, спустя много лет, а пока об этом и не помышляют: городу угрожает смертельная опасность, город нужно защитить ценой любой крови… И все–таки даже в острый критический момент у Шмелева нашлось мужество не пойти против собственной совести, и то, что на поле сражения пало много бойцов, — в этом он не был повинен, его совесть и перед мертвыми, и перед собой была чиста. Несбывшаяся, погубившая много жизней атака — как бы это ни звучало тщеславно для самого Шмелева — оправдывала его образ мышления и действий. Но поступки, по его убеждению верные и разумные, не снимали с него вины. И пусть черная туча еще сгущается — гроза уже неминуема…
Ломов не таков, чтобы прощать другим. Тем более, когда был обескуражен: не простит ни ему, Шмелеву, ни Кострову, намекавшему об окружении, о лаптях… Нет, не простит, не оставит без последствий. И сразу, как Ломов покинул командный пункт, Шмелев почувствовал себя подавленным. Состояние было такое, как перед болезнью. Тело было расслабленным, ныло сердце, он тяжело присел и, положив руку на колено, ужаснулся, увидев, как от нервного возбуждения трясутся пальцы. Устыдился самого себя, сжал кулаками виски, хотел успокоиться, но успокоение не приходило. Саднила голову мысль: «Когда человек занят только собой, он не может думать о других. Такой человек страшно опасен, он может погубить других — ради себя, своей карьеры, ради удовлетворения своего непомерно раздутого тщеславия.
С первого взгляда он может показаться деятельным, суетным, а на поверку — для других, для общества, — он ничего не стоит. Это — инородное тело на здоровом организме, и чем скорее оно будет изъято, убрано, срезано, тем лучше для организма».
Николай Григорьевич встал, отстегнул флягу, глотнул воды. Потом, обращаясь к начальнику штаба, проговорил с решимостью в голосе:
— Немедленно передайте Герасимчуку и всем… Атаку не возобновлять. Войскам зарыться в землю и ждать моих указаний… А то ишь нашелся полководец, чуть дивизию не загубил! — с гневом добавил он, отчего Аксенов весь как–то передернулся и виновато пролепетал:
— Что я мог поделать. Приказывает…
Презрительно отвернувшись от него, Николай Григорьевич сел за стол перед картой и подозвал к себе Кострова:
— Ну, дорогой мой капитан, подсаживайтесь ближе. Будем расхлебывать. Звоните, чего же вы медлите! — кинул он в сторону стоявшего в растерянности Аксенова, и тот схватил трубку.
Землянка не переставала содрогаться. Однако ни бомбовые удары, отчего убежище теснилось и сжималось, ни угрожающий звон снарядов в небе, ни терзающие душу устные донесения — ничто не могло сейчас вывести Шмелева из железного равновесия. Он радовался, чувствуя, что нити боя в его руках, и никакая сила не могла отнять у него этого жаждущего упоения.
Сосредоточенно, как бы рассуждая сам с собой, он высказывал Кострову мысли о новом бое. Собственно, это будет возобновлением уже загубленной операции, только иными средствами и приемами. Высоту нужно взять бесшумно. Взять малой кровью. Как это сделать? В памяти много жизненных примеров. Чтобы убить зверя, для этого мало иметь надлежащее ружье: нужно уметь подкрасться к нему на ближний выстрел… Ко всякому делу нужно иметь свой подход и ключи. Без этого ничего толком не достигнешь. Ключи нашего боя — это ночь. Авиация неприятеля слепа ночью. Наземные войска тоже захотят отдохнуть. Вот и нужно нагрянуть на них в это время.