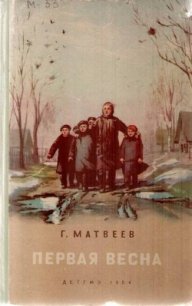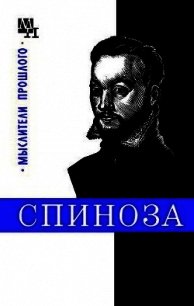Крушение - Соколов Василий Дмитриевич (серия книг .TXT, .FB2) 📗
Во всех и во всем Паулюс начинал разочаровываться.
Куда девался тот, прежний Паулюс? Ведь он вечно комунибудь подчинялся. Гитлер был для него, впрочем, как и для многих, обожаемой и почти божественной личностью, и еще вчера Паулюс в радиограмме в ставку клялся умереть за фюрера и отечество… Еще, будучи заместителем начальника генерального штаба, он питал особое уважение к своему шефу Гальдеру. В лице фон Рейхенау, бывшего первого командующего 6–й армией, Паулюс также видел вышестоящего начальника, поклонялся ему, хотя тот был неприятен (чавкал за столом и пыхтел от ожирения). Он почитал и своего последнего начальника фон Манштейна…
Кто–то из генералов, похоже Зейдлиц, пустил злую шутку: «Дай Паулюсу свободу, и он не будет знать, что с нею делать».
В этой шутке — большая доля правды.
Паулюс повиновался всем. Теперь от него отшатнулись все.
Когда Паулюс пришел к этой мысли, было уже слишком поздно. Последние дни он переживает тяжелые душевные муки. Кажется, только и ломает голову над тем, как быть. И все же ослушаться приказа Гитлера и Манштейна не смеет. Сомневается, но все еще верит и повинуется. Таков он, Паулюс…
Ввалился в подвал Вильгельм Адам. Еще с порога начал возмущаться:
— Какая низость! Встречал я подлых людей, но такого, как этот злой дух армии, еще свет не видел… Ведь это же. надо — пойти на такое вероломство!..
Паулюс знал, кого поносит адъютант Адам. Злым духом прозвали начальника штаба армии генерал–лейтенанта Шмидта. И он этого вполне заслуживал. Но сейчас Паулюс переспросил:
— В чем дело, Адам? Уж не натворил ли этот злой дух еще что–нибудь?
— Господин генерал, я вам прошлый раз докладывал, как Шмидт хотел удрать из–котла. Грозивший расстреливать каждого, кто хоть попытается намекнуть о капитуляции, он теперь сам ведет двойную игру и собрался идти в плен…
Паулюс уставился на адъютанта немигающими глазами.
— Как это случилось? Говорите быстрее, Адам!
— Я уже вам докладывал о том, что Шмидт вызывал к себе командира пехотного полка фон Болье, находившегося в двадцатых годах в Советской стране, и спрашивал его, жестоки ли русские солдаты и офицеры в обращении с пленными и какие у них на этот счет правила в армии. Мне передали, что Шмидт неоднократно вызывал к себе одного переводчика, прикомандированного к штабу армии, и допытывался, чего можно ожидать от русских солдат и офицеров… А вот сейчас я был в комнате начальника штаба. Самого Шмидта там нет. Он куда–то вышел. И его ординарец, обер–ефрейтор, провел меня в жилое помещение Шмидта, подвел к стоявшему в углу маленькому чемодану и открыл его… Вы представить себе не можете, что я там увидел. Все приготовлено к сдаче в плен. И даже белый материал заготовлен. Для белого флага!..
Паулюс покачал головой, жуя губы.
— Жаль, что вы слушаете его советов, господин генерал–полковник, — продолжал Адам. — Человек, который до сих пор распространяет слухи о расстрелах пленных, сам же предусмотрительно собирает информацию о том, какое обращение ждет его в плену, — этот человек не заслуживает доверия…
— Теперь поздно об этом. Конец близок… для всех…. — проговорил Паулюс безразличным голосом.
Да, конец был близок. Подступы к «главной квартире» — подвалу универмага — под прямым огнем. Сплошной оборонительной позиции больше не существовало. В городе положение ужасающее. Около двадцати тысяч раненых, не получающих никакой медицинской помощи, лежат в развалинах домов. От многих дивизий остались одни наименования. Всюду трупы… Паулюсу передали, что Гитлер, читая его телеграмму о потерях, сказал: «Люди восстанавливаются быстро!» Так чего же больше ждать? Действительно, конец приближается.
Перед Паулюсом, который мучительно терзался сомнениями, встал реальный вопрос: самоубийство или плен? До самого последнего времени он был против самоубийства, теперь он начал колебаться. В темноте подвала при свете мигающей свечи он спросил с огорчением:
— Несомненно, Гитлер ожидает, что я покончу с собой! Что вы думаете об этом, Адам?
Адъютант ответил с возмущением и страхом:
— Что вы задумали, господин генерал? До сих пор мы пытались препятствовать самоубийствам в армии. Это было и остается правильным. Вы тоже должны разделить судьбу своих солдат… Они сдадутся в плен, и мы. Вместе разделять горе… Но позорно и трусливо кончать жизнь самоубийством.
Паулюс встал, будто стряхнул с себя груз; казалось, слова адъютанта, мнением которого он дорожил, освободили его от тяжестей. Возможно, он и сам думал о том, что сказал вслух полковник Адам. И то, что мнения командующего и адьютанта в такой остро критический момент совпали, — вдвойне облегчало мучения Паулюса, хотя он и не переставал колебаться. Это было в его натуре.
Привыкший повиноваться, он теперь не знал, что делать — жить или покончить с собой…
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ
Гремит, ликует Волга.
Раскатывает звуки от берега к берегу.
Стонет Волга, платит сполна за непрощенную обиду, за скорбь, за поруху и сожженье…
Ревет Волга. Все батареи, артиллерия всех систем и калибров надрывается в реве, мечет, как из вулкана, огненные вихри. А из–за скупого непроглядного зимнего неба плывут штурмовики, срываются почти отвесно вниз, на чужие позиции. От огня и пламени, от взрывных волн тесно и на земле и в небе.
Бушует разгневанная Волга. Ломается лед. Звон катится от берега к берегу. И раскованная река вздыхает.
Взошло солнце, холодное, почти негреющее, — поднималось из–за облака огня и черного снега.
Последние часы…
Русские перешли в решительный штурм. Они теснят, сжимают, рвут осадные позиции. Фронт грохочет. Кроме снарядного воя, скрежета металла, шороха близко падакнцих осколков и кирпичей, ничего не слышно. Потом и эти звуки заглохли. Только звон в ушах. Давящий и протяжный звон. Немцы не узнают друг друга. Смотрят очумелыми глазами и не узнают лица и даже свою одежду. Шинели потеряли привычный цвет. В глазах рябит. Багровые круги то вспыхивают, то меркнут, взор застилает пелена тьмы. И дышать нечем — не продыхнуть пыль.
Окопы и траншеи завалены, блиндажи обрушены, укрыться негде, — передний край потерял свои очертания и значение.
Канонада не прекращается.
Растрепанные полки и дивизии лишаются связи со штабом Паулюса. Проводная линия перебита, радиостанции глохнут. Изредка нащупываются, как пульс у больного, потерянные позывные. Паулюс подходит к радисту, надевает наушники: голоса командиров, захлебываясь, булькают, как из придонной толщи воды.
Радиограммы идут безутешные…
Отчаянный крик души: «Выхода нет… Последним патроном кончаю с собой… Слушайте, чтоб удостовериться, господин Паулюс… Прощай, Германия!..» — В ушах гремит отголосок выстрела. Паулюс сдирает наушники, морщится, говорит бессвязно:
— Это… это… Выстрел в меня.
Адам глядит из подвального окна, забранного решеткой. Стрельба как будто убавилась или куда–то переместилась. По крайней мере в секторе окна не видно всплесков огня и дымных взрывов. Потом он видит шинели. Свои, немецкие. Масса шинелей на сгорбленных фигурах. Медленно встают. Медленно собираются. Медленно бредут… Над колоннами поднимаются белые флаги.
— Господин командующий, они сдаются! — кричит будто оглохший Адам. — Сдаются! Я вижу белые флаги… Где столько флагов набрали? Берегли, готовились…
— Белые флаги… Готовились… — машинально шепчет Паулюс. И вздрагивает, поняв смысл сказанного. Смотрит в темный угол длинного, с низким потолком подвала.
Скрипнула дверь, заставившая Паулюса вздрогнуть. Каждую минуту ожидалось появление русских, и оттого цервы были напряжены. Однако на этот раз на пороге появился начальник штаба. Среднего роста, короткостриженый, с приплюснутой и ушастой головою, генерал–лейтенант Шмидт напоминал сейчас конторского чиновника. Он как–то враз потускнел, и без того невзрачную его фигуру будто приплюснуло к земле. Но Шмидт вдруг заулыбался, подавая командующему лист бумаги и говоря: