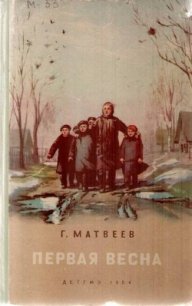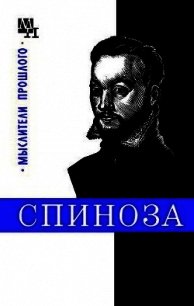Крушение - Соколов Василий Дмитриевич (серия книг .TXT, .FB2) 📗
— Это они пока торопят проводить!
— И ты так думаешь, Алексей? Да, так думаешь? — заупрекала Верочка.
— Не хочешь, чтобы уезжал? — сорвалось бездумно с губ Алексея, и он почувствовал ненужность и неуместность этих слов — его вопрос еще больше огорчил Верочку.
Алексей с удивлением отметил, как изменилось ее лицо. Это было то же лицо с мягкими и спокойными чертами, те же глаза, в которые само небушко, казалось, заронило синеву, — лицо, которое видел и раньше, теперь же оно выражало нечто такое, что говорило о ее строгой задумчивости, будто отныне сама Верочка прощалась с безмятежной девичьей порой и становилась совсем взрослой.
— Я понимаю тебя, Верунька, мне тоже очень нелегко… проговорил Алексей медленным и приглушенным голосом.
Верочка смотрела на него, не зная, что он имеет в виду, и как ему ответить: выразить ли сочувствие его отъезду на фронт, где, конечно же, опасно (но стоит ли намекать в такую минуту об этом?), или сознаться прямо, что ей также тяжело будет переносить долгую скрепленную любовью разлуку? Она не сказала ни того ни другого, видимо понимая, что само молчание выражает то, что лежит на сердце.
Зная и понимая ее внутреннее состояние, Алексей старался как–то успокоить Верочку. Но он и сам был в расстроенных чувствах. И то, что он собирался уезжать и надолго, быть может навсегда, усиливало его переживания. Он даже подумал, что их будущее счастье может быть украдено несчастьем других людей или злых обстоятельств, и при этой мысли впал в уныние. «Ну чего 450 ты? Почему такой грустный?» — молчаливо и бессловно говорила она одним взглядом. И возникшая на ее чистом, нетронутом еще скорбью лице бледность, и эти беспокойно вздрагивающие ресницы, а главное — эта глубокая, впервые, кажется, понятая и переживаемая ею печаль — тревожили его и побуждали быть участливым.
Спокойно, боясь причинить ей душевную боль, Алексей заговорил:
— Все будет так, как мы загадаем.
— А скажи, — вдруг спросила она с дрожью в голосе, — вот пули или снаряды, они ведь отлиты из одного металла, что и раньше… И, как раньше, убивают?
— Не думай об этом, Верунька. Не надо… Это страх, — сказал он и, не договорив от волнения, обхватил рукой ее за талию, и она наклонилась, подставляя ему припухлые, ждущие поцелуя губы.
Потом Алексей начал перебирать на ее голове волосы, укладывая прядку к прядке. Она прижалась своей щекой к его сердцу, слушая, как оно сильно колотится, и снизу вверх заглядывала на него. Алексей видел, как в одно и то же время все ее лицо светилось печалью и радостью еще не росстанного, короткого времени.
— Давай посидим перед дорогой, — сказал Алексей, и они присели на один стул, минуту соблюдая глубокое молчание, потом порывисто встали.
По пути на станцию, идя протоптанной в снегу тропою, они почти не говорили. Если порой и хотели обмолвиться, то это было либо пожелание, что Верочке нужно беречь себя, потеплее одеваться и ни в коем случае не возвращаться одной в буран и метель, или давался наказ Алексею не лежать на сырой земле, тоже потеплее одеваться и при удобном случае стараться ночевать под крышей — есть же в прифронтовой полосе хаты, неужели все спалены?
— А прежде всего себя береги от пуль и снарядов чужих. Ты же теперь не один… — сказала она просто, так просто, что Алексей подивился ее спокойствию и сознанию убежденности, что он «не один».
Эти слова обрадовали его и одновременно отозвались в голове укдром, когда он на миг вспомнил Наталью. То, что за все время встречи упоминали о ней лишь походя, не удивляло Алексея. Нежелание говорить о ней он объяснял тем, что младшая сестра, несмотря на родственные отношения, считал» Наталью падшей, неверной, о чем не раз говорила и ему, Алексею, раньше.. Теперь же пусть и временное забвенье Натальи имело более глубокие причины.
Верочка повзрослела, стала серьезнее в мыслях, в поступках, особенно после того, как приехала на Урал и начала жить самостоятельно.
Встретясь с Алексеем уже тут, на Урале, она вдруг увидела, что между ними складываются отношения, совсем не похожие на прежние, родственные. Порой ей становилось беспричинно легко и весело и хотелось работать, работать… Ей казалось, что усталости никогда и не бывает. Она боялась назвать это новое чувство, но и не противилась ему, не считала его чем–то зазорным, за что могли бы осудить ее люди.
Радостно понимала Верочка, что пришла и ее, ни от кого не зависимая и не украденная любовь.
— О чем ты думаешь, Верочка? — спросил Костров и услышал сдавленный ее голос:
— Как же с Натальей?
Алексей вздохнул:
— Сам мучаюсь. Да, впрочем, предрассудки все это… И наши чувства не замараны.
Шли дальше, вминая валенками снег. И опять молчали. Наконец, Верочка спросила:
— Все–таки покидаешь… А как же я?
Алексей на мнг остановился, взял ее за локоть и сказал убежденно:
— Как? И ты смеешь так говорить?
Верочка не поняла его, и Алексей даже обрадовался, что не поняла.
И они снова пошли молча — до самой станции.
Эшелон — длинный, с танками и орудиями, покрытыми белыми брезентами и оттого казавшимися слонами с вытянутыми хоботами, — был готов к отправке.
— Ну, синеглазая моя… — когда был дан пронзительный свисток, проговорил Алексей и обхватил ее за плечи, целуя в губы, в глаза. Верочка прижалась к- нему доверчиво и укромно, будто затерянная пташка, ища в нем свою защиту и свою надежду.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
В хмурые дни октября сражение за Сталинград достигло высшего накала. Уже шумел в садах листопад, уже тянуло с севера холодами, а над городом и его окрестностями аде стояла какая–то неземная, источаемая пожарищами жара. Вздрагивала земля от. плескавшихся то там, то здесь разрывов, меркла степь в дымах, и низкие осенние облака, едва достигая границ фронта, плавились в раскаленном воздухе…
На пределе — измотанные и обескровленные — обе воюющие стороны. Но сражение еще бушевало. Много дней штурмуя горящий город, заливая его поверженные улицы и площади взрывным металлом, немцы хотели взять Сталинград. Им чудилось, что до победы оставался один шаг. Русские были прижаты к берегу. Война умещалась на тесном плацдарме, .на узких, вдавленных в землю позициях под развалинами домов, у бойниц подвалов. Война вошла сюда с, танковыми и пехотными дивизиями, с тысячами орудий и минометов всех систем и калибров, с последними резервами. То, что Гитлер, фельдмаршалы и генштаб готовили для всего огромного Восточного фронта на 1942 год, было стянуто в междуречье Волга — Дон и нещадно, как в гигантском жернове, перемалывалось.
Знала ли история войн, чтобы за один город, а теперь уже за один узкий, прижатый к волжскому берегу плацдарм (это все, на чем держались русские в Сталинграде), могли сражаться. две немецкие отборные армии, итальянская и румынская армии, саперные штурмовые батальоны — огромное количество наземных войск, поддержанных армадой самолетов воздушного флота? Ничего подобного в истории войн не было.
На этот невиданный и, в сущности, роковой шаг немцы решились в Сталинграде.
Но Сталинград не взяли.
Немецкий фронт, подгоняемый строжайшими приказами, не двигался. Сражение замирало, как ослабленный, покрывающийся пеплом вулкан.
Но и русским приходилось туго. Они поклялись умереть, но не уйти из города. И они умирали. Раненые не хотели переправляться за Волгу — они сражались. Командующие были вместе с солдатами: ютились в сырых щелях, вырытых под берегом, или в развалинах домов, сидели на голодном пайке, пробавляясь концентратами и сухарями. Если что и саднило Душу, так это страх плена, и, чтобы не дать себя захватить даже в раненом состоянии, каждый — от рядового до командующего — держал на всякий случай припасенный и бережливо сохраняемый один–единетвенный патрон…
Итак, все, что двигалось, сея смерть и разрушения, утверждая страхом оружия зло и насилие, теперь встретило непреодолимую силу. Одна неприятельская сторона вынужденно обратилась к обороне после того, как исчерпала свои возможности в наступлении. Другая — противоборствующая — сторона, некогда терпевшая бедствия и потери, но не сломленная, стала перед фактом перехода в наступление. И оно грядет неизбежно, как гром после молнии, рассекшей сумрак неба.