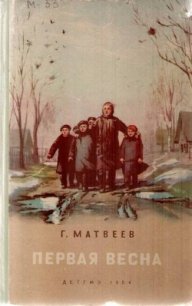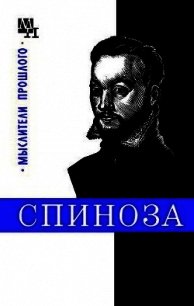Крушение - Соколов Василий Дмитриевич (серия книг .TXT, .FB2) 📗
Шумит–гудит завод. Ухают молоты, рождая подземные толчки. Железные руки, повинуясь воле человека, подносят в нужное место нужную деталь, плавится броня, вспыхивают синие огни в сварочном цехе. Все податливо человеку, все движется, все живет…
Державно выходит из цеха танк, вырывается на простор, мчится на предельной скорости, исчезая в метели, а кажется, ушел прямо в бой…
Все это сейчас представлялось реально глазам Кострова, того Кострова, который, попав на завод, обрадовался, что оказался в родной стихии, потому что сам в ранней молодости начинал работать сварщиком–верхолазом. Здесь не столько поражали кажущаяся тяжесть механизмов, движение этих железных предметов и шумы, как то, что завод этот вырос на пустыре, вырос зимой, можно сказать, под открытым небом, если не считать крышей соломенные маты и брезентовые пологи — кое–где по углам этот брезент оторвало ветром и он хлобыстал, сваливаясь и образуя незащищенные провалы и щели, в которые дула стужа и набивался метельный снег. Его радовало, что, как и там, на фронте, люди живут дыханием войны и желанием приблизить конец этой войны и, не считаясь с силами, куют металл и оружие.
Но мастер Тюрин, старый мастер, — он восхищал его и вместе с тем огорчал, заставляя, как и парторга Ермолаева, злиться. Накоротке встретившись с ним в пролете цеха, Костров угощает его махоркой из кисета и сочувственно говорит:
— Вы все–таки пойдите.
— Куда? — вскидывает лохмы бровей мастер.
— К Стеше, небось заждалась…
— Она у меня, как цветок бессмертник, — отшучивается мастер. — Никогда не вянет…
— Тем более, когда такой цветок, то и самому нужно приноравливаться к нему, — глубокомысленно намекает Костров.
Тюрин крутит усы и загадочно усмехается.
— У нас в роду все живучие. Врачей, как и попов, не признаем, никаких лекарств, никакого зелья, окромя жгучей, не употребляем. И слава богу, мой прадед, как явствует молва, До ста жил, дед, опять же метрики подтверждают, на девяносто седьмом ушел на покой, отец и поныне пашет…
— Сколько же вам–то лет?
— С подсчетов сбился, бухгалтерия нужна личная, — отмахнулся Тюрин. — Только ежели старшему сыну, в доцентах он московских пребывает, за сорок перевалило, а женился я в восемнадцать, то… Одним словом, младшему седьмой годок… Ого–го, во мне еще силы! — Потряс Тюрин жилистой рукою.
Эти слова раздражают проходящего мимо инженера Ермолаева. «Храбрится как петушок», — хмуро улыбается Ермолаев и подступает с другого конца:
— Наукой доказано, — говорит он, — что если поставить новую машину и не ухаживать за ней, не смазывать, не останавливать на Осмотр и ремонт, а гнать и гнать напропалую, то она в два–три раза сокращает свой положенный срок.
— Знаю, — вторит Тюрин. — Машина требует ласки, чистоты да смазки.
«Кажется, уломал, соглашается», — обрадованно подумал инженер, а вслух проговорил:
— Так бывает и с человеком. Не дай ему отдохнуть, заставь работать на износ…
— Иди по своим делам. Иди, иди. Дай с хорошим человеком, повидавшим войну, погуторить,: — говорит старый мастер и смотрит на Кострова участливо, давая понять, что страсть охота потолковать о военных новостях.
Заводской шум глушит голоса, приходится кричать.
— Отойдем в сторонку, — предлагает Тюрин, беря фронтового товарища под руку: — Как там, на войне? Почем фунт лиха?
— Тяжело, — отвечает нехотя Костров и опять сводит разговор к заботам о мастере. — Которые сутки не смыкаете глаз?
— Третьи, кажись, да откровенно не помню. Запутался… — И, желая разговорить товарища; начал о подходцем: — Извиняюсь, а вам как доводилось на фронте? Я, понятно, не о подвигах, газеты о них ловко пишут, а как относительно сна?
— По–всякому приходится, — ответил Костров. — Бывает, и сутками не урвешь минуты для сна, а бывает, спишь беспробудно. Особенно после сражения.
— Знаю, сделал дело — гуляй -смело, — поддакнул мастер. — Вот и мы печемся…
— У вас дело налажено.
— Налажено, да не Совсем, — возражает Тюрин. — Вы ведь за танками приехали. Не будете ждать — к спеху нужны. Мы и порешили лишних танка три собрать. Глядишь, и они сгодятся на добавочные километры. А то и пособят целое селение отнять. Вот и приходится все время на ногах.
— Одним словом, работаете, как тот бессменный часовой, — сказал Костров.
— Какой часовой, что–то мы про него не слыхали? — спросил Тюрин.
— Ходит у нас фронтовая молва, — заговорил Костров. — Когда в сорок первом навалился немец, зачал территорию забирать… Неразбериха кругом… Ну и забыли снять часового со склада артиллерийского. В лесу этот склад стоял. Угодила бомба в караульное помещение, никого не осталось. Лишь склад уцелел и часовой при нем. Ждать–пождать смены, никого нет. Не сменяют сутки–вторые… И приказа нет. Был этот часовой узбек. А узбеки — бойцы терпеливые, упрямые до непонятливости… Стоит и стоит на часах. А потом, когда завидел немцев, как закричит: «Не подходи, моя стреляет!» Немцы нахально идут, хотели живьем взять, а он, часовойузбек, видит, что его посту угрожает опасность, подпустил ближе на возможное расстояние, но стрелять не стал, а включил рубильник… Погиб узбек, но и немцам был нанесен урон. Ведь весь склад взлетел…
В это время с ковшом снега проходил Ермолаев, и старый мастер задержал его.
— Вот послушал бы, как дело было. — сказал он внушительно. — Часовой–то не сменялся; Жизни лишился, а совесть не продал. А ты мне износ…
Как ни крепился старый мастер, а на четвертые–сутки все же пошел, домой. Путь недолгий — версты три до барака, а там — жаром пылающая печь–времянка и Стеша со своими блинами из пшена да вареньями, привезенными еще из дому, когда эвакуировались, и дети обступят, каждый желая наперебой слить ему на руки воду. Они это умеют, только чересчур брызгаться любят, наберут в рот воды и прыскают на самих себя, перепадает и ему, отцу, струйки затекут за шею, под рубашку, злись не злись, а щекотно и приятно.
И метель–то разыгралась — благодать. Когда снега много, значит жди полные закрома хлеба. Пусть метет. Ох, как потребен сейчас хлеб. Ведь полстраны оттяпал немец, житницу забрал, а кормиться нужно — и в тылу, и армии. Мети–мети, вали больше снега. Вот только идти тяжело, ветер встречный бьет, того и гляди с ног свалит. Да и темнота мешает. Надо бы засветло уйти, никто не стал бы укорять. А совесть? Разве она не укоряет его? Укоряет, да еще как!..
Темень и снег слепят глаза. Бьет в лицо, в грудь ветер, нужно отвернуться. Так удобнее. Сейчас дойду. Дойду… Хорошо бы, если Стеша догадалась картошки сварить. Блины она любит, а картошку нет. Говорит: «Приедается». Какое там! — никогда не наскучит, если умеючи готовить ее, по–разному. Хотя бы и печеную, в мундире, лишь бы лучок был да капуста моченая. Стеша умеет это делать, она у меня мастерица на кушанья. Вот только капуста на исходе, и картошку приходится покупать на базаре. Дорого цену ломят спекулянты, да уж как–нибудь переможем…
Шагай–шагай веселее, чего ты медлишь. Снег глубокий — не беда. Ветер–сбивает — вот так супротив него наваливайся грудью и делай шаг — один, другой… Ничего не видно. Снег на треухе, снег на плечах. Снега много, попадает даже в рот, в нос. Не продыхнуть. И брови слиплись в сосульках. Еще немного. А ноги деревенеют, подламываются в коленках. И дышать тяжело. И сердце поламывает. Передохнуть надо. Успокоиться. Но метельто всерьез взялась. Кажется, бураном оборачивается. И где я, почему так долго иду? Скоро ли до барака, до родного порога, Стеша, открывай дверь, мне сегодня очень холодно. Болит все, Стеша. Ноги ломит, руки в суставах, и аердце пошаливает. Да уж ты, Стеша, не забирайся со своими слезами в чулан. Это я между прочим пожаловался. Тебе одной. У нас в роду… Фу, черт возьми–то! Крутнул буран, сшиб с ног — и не встать. Нет, не встать, как ни пытайся. Руки оледенели. А в снегу тепло, как тепло! Недаром, оказывается, медведь всю зиму укрывается снегом. На нем, правда, меховая шуба, и дюжий он, запас жирности имеет, лапу только сосет. Видимость еды соблюдает. Но ведь в снегу, и всю зиму, а не один час… Немножко можно погреться. Не беда. Только дома надо греться, разуться и поворачивать ноги возле печки, тепло пальцы пощипывает, одно удовольствие, и ребята прилезут — Петька с Аленкой: «Тятя, расскажи сказки…»