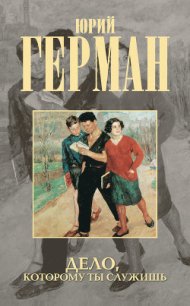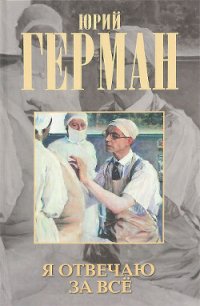Дорогой мой человек - Герман Юрий Павлович (читать книги регистрация txt) 📗
– Это какое такое привидение?
Елена молчала, прижавшись к стене. От раненого густо пахло табаком, и он был такой небритый, что напомнил ей Робинзона Крузо из книжки, которую она недавно прочитала, только попугаев не хватало вокруг него.
– Докладывайте, – велел Робинзон, – почему вы сюда заявились, привидение? И еще докладывайте: разве детские привидения бывают?
– Я не знаю, – с присущей ей серьезностью ответила Елена. – Но только я не привидение, я – девочка и пришла к раненым – петь, танцевать и рассказывать. И мне доктор Владимир Афанасьевич разрешил.
– С ума сойти! – восхитился Робинзон Крузо.
Постукивая костылем, он привел Елену в огромную палату с каменными стенами и каменным потолком. Только пол тут был деревянный. Под серыми одеялами кое-где вздымались возвышения – Робинзон Крузо не совсем понятно объяснил, что эти возвышения называются «зенитками». Кое-где в полусумерках она видела нечто странное, белое, почти бесформенное, Робинзон сказал, что это загипсованные руки и ноги и что ничего особенного в этом нет. Один раненый лежал навзничь, ноги его были покрыты колпаком, в колпаке горела электрическая лампочка, эта лампочка просто ужаснула Елену, и она долго не могла отвести взор от раненого с лампочкой.
– Ты, Елена, не трепещи, – сказал ей Робинзон. – У Павлика ноги обожжены, его Владимир Афанасьевич по новой системе лечит, согласно современным научным достижениям. Чтобы там, в ящике в этом, одна температура держалась. Теперь – «зенитки». Это мы так про себя выражаемся, а на самом деле это костное вытяжение. С первого взгляда целый кошмар иголка через кость пропущена. А по существу вопроса, наш героический старшина Панасюк никакой боли не испытывает. Верно, Аркадий?
– А оно кто такое? – спросил Аркадий.
– Сейчас представлю, – ответил Робинзон. – Пусть оно немного к нашему зоосаду привыкнет…
– Я уже привыкла, – спокойно сказала Елена.
– Ну, раз привыкла, значит, будем начинать.
И голосом опытного конферансье Робинзон произнес:
– Товарищи раненые! Тут к нам прибыл ребенок по имени… Как тебя величать-то, девочка?
– Елена. Ярцева Елена.
– Ребенок Ярцева Елена. Она говорит, что может петь, танцевать и рассказывать. Вроде – она начинающий артист. Что ж, попросим?
– Попросим! – донеслось с койки старшины Панасюка.
И другие раненые тоже отнеслись к предстоящему Лениному дебюту довольно благосклонно:
– Пущай делает!
– Давай, девочка, не робей!
– Только первый бой страшен!
– Шуруй на самый полный!
Не зная, куда себя деть и как держаться, Лена подошла к той койке, на которой лежал Панасюк, взялась руками за изножье и сказала, глядя в его доброе бледное лицо:
– Песня. Под названием «Золотые вечера».
– Что ж, хорошая вещь, – одобрил Аркадий.
Елена кашлянула и запела своим тонким, чистым, слегка дрожащим голоском:
Пахнут медом,
Пахнут мятой
Золотые вечера…
Пела и смотрела серыми, все еще немного испуганными глазами на раненого, у которого под ногами горела электрическая лампочка. А раненый Павлик смотрел на Лену просто, серьезно и задумчиво, а когда она кончила свою песенку, сразу же громко сказал:
– Бис-браво-бис!
– Полундра, фрицы, здесь стоят матросы, – загадочно и поощрительно произнес Аркадий и оглушительно захлопал большими ладонями.
Лена спела еще. В дверях палаты теперь стояли нянечки и сестры, пришло несколько ходячих раненых. Робинзон Крузо со строгим выражением заросшего лица попросил соблюдать полную тишину, но это он сказал на всякий случай, потому что и так было абсолютно тихо.
– А теперь я вам скажу стих, – произнесла Елена, и длиннющие ресницы ее опустились, отчего худенькое личико стало вдруг таким трогательно прелестным, что Робинзон Крузо, у которого где-то на Орловщине были две девочки, мгновенно вспотел и задохнулся. – Стих, сочинение товарища Маршака.
Теперь Елене вовсе не было страшно, как поначалу, когда она вошла в подземную хирургию. И те раненые, которые совсем недавно казались ей пугающе опасными, теперь выглядели совсем обыкновенными людьми, только лежащими в неудобных позах. И все они хлопали ей, а те, которые не могли хлопать, потому что были ранены в руки, кричали:
– Давай, Ярцева, стих!
– Не робей, Оленка!
Все так же, держась за изножье кровати, Лена принялась рассказывать про старушку:
Старушка несла продавать молоко…
В стихотворении было много смешного про старушку, а так как Елена не читала стихотворение, как читают стихи обычно, а рассказывала его якобы от себя самой и притом с самым серьезным видом, то это было еще смешнее, и раненые моряки громко хохотали, а у Павлика даже слезы выступили на глазах. Он утирал слезы ладонью и охал:
– Это да, старушка! Надо же…
– А теперь я вам станцую! – объявила Елена, покончив со стихами.
– Сейчас Елена Ярцева выступит с танцами, – ловко прыгая, опираясь на костыль, как бы перевел Робинзон Крузо, который теперь стал непременным участником концерта и даже его руководителем. – Внимание, товарищи, танцы!
Третье отделение программы – танцы – прошло значительно хуже, чем предыдущие два. Оказалось, что доски пола в палате ссохлись, и, когда Лена начала прыгать, осуществляя разные сложные повороты с притопываниями, пол затрясся, запрыгали койки, и один наиболее нетерпеливый раненый даже застонал, за что ему впоследствии, правда, попало от товарищей. Тем не менее танец «Кабардиночку» Елена прервала на половине и очень сконфузилась, но ее тотчас же стали хвалить, попутно объяснив, что танцы лучше проводить в коридоре, что танцы, разумеется, замечательная вещь, но поскольку тут такая специфика, может быть, Елена еще споет, а танец покажет в недалеком будущем, когда Робинзон Крузо, плотник по профессии, сплотит полы, чтобы они не дрожали, как собачий хвост.
И Елена запела.
Репертуар у нее оказался большой: и «Катюша», которая, как известно, выходила вечером, и веселая песенка «Ни туда и ни сюда», в которой Елена продергивала бесноватого фюрера, и даже «Я на подвиг тебя провожала…»
Во время исполнения Леной этого последнего номера и вошел в палату, вернее, вклинился в толпу у двери Владимир Афанасьевич Устименко. Раненые чуть раздались, чтобы пропустить его вперед, и он увидел Елену, которая, порозовев от выпавшего на ее долю успеха, допевала песенку. В спину Володе жарко дышал военфельдшер Митяшин. Похлопав вместе со всеми Елене, Устименко велел с завтрашнего дня зачислить Ярцеву на довольствие, и так как Митяшин вздохнул и почесался, то Устименко заключил свой приказ так:
– Об мою голову. Впоследствии разберемся.
– Основание бы мне какое-либо, – еще вздохнул Митяшин. – Для бюрократизма.
– Основание – санитарка, – брякнул Володя.
– Да какая же она санитарка, товарищ майор?
Вдвоем, изобретая основание для зачисления на довольствие, они вышли из подземной хирургии на чистый морозный воздух. В Горбатой губе гукнул уходящий буксир, в сторону фиорда Кювенап высоко в небе прошли бомбардировщики. Устименко сказал, подбирая слова:
– Нельзя, товарищ Митяшин, толковать о человечестве, упуская человека. Человечество состоит из человеков. Елена – человек.
– Оно так! – согласился Митяшин. – Боюсь, разговоров бы не было.
– Это каких же разговоров?
В темноте голос Устименки прозвучал недовольно, почти зло.
– А таких! Нора – женщина интересная, представительная. Обратно же, вдова. Вы – мужчина представительный, наши все на вас заглядываются, ну и неженатый…
– Я об этом слушать не желаю! – сказал Устименко.
Умывшись и выпив чаю, он зашел к Ашхен. Бабе-Яге было совсем плохо, Зинаида Михайловна, тихонько всхлипывая, кипятила шприц. Володя посмотрел температурный лист, посчитал пульс.
– Что там у нас? – спросила Бакунина.
– Все хорошо.