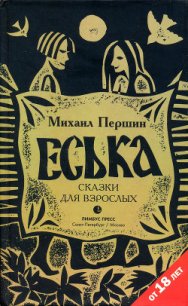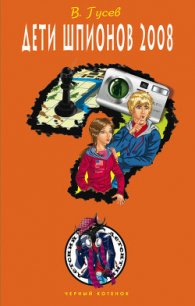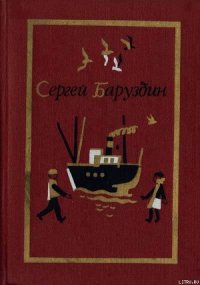Ворон на снегу - Зябрев Анатолий (библиотека книг бесплатно без регистрации TXT, FB2) 📗
При всех негативах Флорешты оказались местом для батальона не так уж худым. Старшинам рот, каждому для своего подразделения, удавалось добыть у местных хозяек мамалыгу в обмен на что-то, а, скорее всего без всякого обмена, и продукт этот, появившийся на столе, в рационе, быстро выправлял наши зачуханные тела. Резко вдруг подался в росте Федя Бугаев. Да и я, кажется, на пару сантиметров прибавил. Неудобство состояло лишь в том, когда на вечерней поверке мы выстраивались и перед строем случалось пробегать штабной телефонистке (скорее всего явление её было не случайным, а специально провоцирующим), грудастой хохлушке с налитыми, яблочно-алыми щеками, у всего строя вдруг неприлично вздувались штаны. Старшина гневно взглядывал на лукавую провокаторшу, он же ведь отвечал за наш половой покой. Такая вот молдавская мамалыга!
На румынскую территорию, на крупную узловую железнодорожную станцию, только-только освобождённую от немцев, мы попали вскоре. Произошло это обычным порядком. По тревоге с полной выкладкой среди ночи добежали до аэродрома, заполнили собой чрево винтокрылой машины и, не видя друг друга, а лишь ощущая толчки и запыханное дыхание с боков, сзади и спереди (ни внутри самолёта, ни снаружи, на аэродроме никакого лучика света, а южные ночи чернее сажи) мы разместились кто как сумел.
У меня быстро замлели ноги в ступнях и в коленях, я их заморозил ещё в Бердской лагерной зоне, когда сортировали стылую капусту в буртах, и оттого сидеть на кукорьках больше десяти минут – мучение. Долетели без происшествий. И в ту же ночь – наряд на патрулирование.
Обязанность патрульной службы здесь состояла в том, чтобы высматривать подозрительных типов среди тех пассажиров, какие ехали на крышах вагонов и висели гроздьями между вагонами на буферах и воздушных тормозных шлангах.
На этот раз со мной в паре был Гена Солощев, как я уже про него, по-моему, говорил, тихий, робкий парень, колонист, страдающий брюшной болезнью, а потому молчаливый и сосредоточенный в себе. С ним в паре быть хорошо – не отвлекает болтовнёй.
Задержанных надлежало нам доставлять в комендантскую комнату при вокзале. Комендант, высокий рыжеусый румын с чёрными глазами, лет сорока, владел каким-то набором русских слов, и каждый раз, как мы к нему приводили очередного задержанного, с чувством говорил: «Большой молодец». При этом старался доверительно улыбнуться, но вместо улыбки выходила гримаса, так как всю его впалую щеку до уха рассекали два глубоких рубца. Комендант, должно, зная, что улыбка у него не получается, потому старательно затягивался сигаретой и обволакивал, зашоривал себя плотным дымом.
Толпа, толпа у каждого прибывающего на перрон и каждого отбывающего с перрона поезда. Ага, вон кто-то, заметив патруль, прячется на крыше. Я с фонарём лезу к нему, держа оружие наготове. Напарника Гену только что стошнило – его болезнь проявляется в том, что его часто тошнит и рвет – и он остается внизу страховать. За ночь дежурства Гену рвёт не раз, а в санчасть идти решительно отказывается. Солдаты нужны в действии, упрямо считает Гена.
Я вот лезу с фонарем на крышу. Человек же, который на крыше, если он тот самый, за кем мы тут охотимся, а охотимся мы на узловой железнодорожной станции за теми, кто мародёрством в прифронтовой полосе обогатился золотыми и прочими драгоценными вещами и сейчас везёт их на Восток, прямым ходом в кипящую матерыми спекулянтами Одессу – если он тот самый, то он сейчас встретит меня молниеносным ударом ноги в лицо, сам же прыгнет на другую сторону вагона, в темноту, а напарник же мой, добрейший Гена, страхующий внизу, не успеет в эти секунды и сообразить, что вверху, над его головой произошло. Если же человек, которого мы с Геной заподозрили, забрался сюда, на крышу, и прячется просто потому, что нет у него билета, то такой персонаж меня не интересует. Я требую, придав голосу властный звук, показать документ, человек показывает, рука у него дрожит, я, подсвечивая, добросовестно вглядываюсь в поданную бумажку, хотя прочесть в ней не способен ни слова. Возвращаю, киваю: дескать, всё в порядке, езжай. Лицо человека было потухшее, вспыхивает радостью. Мне тоже приятно. Вообще мне жалко, мне всех жалко. Война – это состояние, когда никто никого не понимает. Одни теряют вещи и жизнь, другие обретают вещи, а жизни всё равно не прибавится, скорее убавится. В итоге теряют все. В абсолютном выигрыше никого.
Но вот снова наше обостренное внимание останавливается, на этот раз не на крыше вагона, а в толпе. Это был мужчина, подозрительно одетый в то, что носят молдавские и румынские пастухи. Когда я привел его в комендантскую комнату, тут была паника. Сам комендант лежал у стены на полу, рука закинута за голову, ноги в немецких сапогах разбросаны широко, будто лежа он собирался за кем-то бежать. Это почему-то не потрясло меня и не удивило, остановившись у порога, я глядел, заторможенный в своих восприятиях. Люди, находившиеся в комнате, пытались как-то помочь поверженному коменданту, а помочь ему, я сразу определил, уже ничем было нельзя, он был мёртв. Убийство совершилось только что, за секунды до моего прихода, кровь ещё не загустела, растекалась по полу, окрашивала битое стекло. Дыра в окне свидетельствовала, откуда, с какой стороны совершено нападение.
Я постоял немного и, указав задержанному на дверь, вышел за ним. При такой создавшейся ситуации я должен доставить его в свою часть дежурному. С точки зрения здравого смысла это было величайшей глупостью. Конвоировать одному нельзя. Ну, противоречит уставу. Тем более, в ночное время. Тем более – в незнакомом разбомблённом городе. Тем более, не с автоматом, а с карабином, оружием примитивным и малопригодным в условиях тесных застроек. А что делать?
Я должен, как старший патруля, взять напарника, сняв его с поста. Но и оголять пост, оставив вокзал без патрульного бойца, я не имею достаточного основания.
Проще бы, конечно, отпустить: иди, молодец, на все четыре стороны, я тебя не видел, и ты меня тоже. И я бы, наверное, так и распорядился, но вероломное убийство коменданта взывало к отмщению, он мне был по-отцовски симпатичен тот румын, не забывавший поощрять русского солдата: «Бо-ольшой мо-олодецы». Он был из рабочих, совершивших революционное восстание в Бухаресте, что помогло Красной Армии при наступлении.
У задержанного была брезентовая сумка с лямками, надетыми через шею на плечо. По тому, как лямки оттягивались, в сумке было что-то тяжёлое, какой-то несоразмерный со своим объёмом груз. Я это приметил сразу.
Отступив на несколько шагов, я следовал позади задержанного человека, его силуэт растворялся в темноте. А где надо было переходить с одной улицы на другую, делать повороты, я подбегал почти вплотную и рукой показывал, куда идти. Это было, конечно, и вовсе явным нарушением правил конвоирования, так приближаться, это было потерей всякой бдительности, но что я мог поделать, если я не умел отдавать ему команды, не владея ни немецким, ни румынским. Я знал только «шнель», «хенде хох» и ещё два-три слова. А вот «направо», «налево» – как?
В очередной раз я тронул конвоируемого за плечо, когда оставалось перейти последний, короткий переулок, изрытый недавними снарядами, – вот я показал ему рукой направо, в другой руке держа оружие, как вдруг он толкнул меня всем своим корпусом, ухватился за карабин и стал тянуть.
Я, хоть и был обучен кое-каким приёмам рукопашного боя – больше в колонии обучен, чем в роте, – от неожиданности упал на бедро, оружия же не выпустил, уцепился. Карабин, задев за кирпичи, непроизвольно выстрелил, это меня и спасло. Повторяю: это меня и спасло.
На выстрел через переулок прибежали бойцы из нашей караульной службы...
При досмотре в брезентовой сумке задержанного была обнаружена железная коробка, а в ней… просо. Однако, под тонким слоем буровато-оранжевого зерна – кольца, браслеты, серёжки, брошки и прочая женская бижутерия – и всё это из жёлтого металла да с разными кристальными блестками. Ба-атюшки, никогда я ничего подобного не мог видеть!