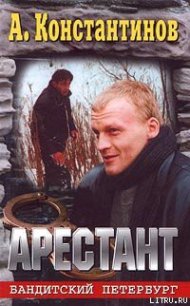Приключения женственности - Новикова Ольга Ильинична (книги регистрация онлайн бесплатно .txt) 📗
— Ну, что ж… Я ведь только хотел… Ну, пусть так будет… — В голосе Рахатова была слышна и растерянность, и угроза.
Раньше, еще совсем недавно, Жене бы стало жалко его, она бы признала себя виноватой и бросилась утешать — а для этого надо было сказать всего три слова: «Я люблю вас». Сейчас она по-другому понимала его боль: не может или не хочет — что для Жени, честно говоря, одно и то же, — он ничего изменить в своей жизни, не собирается ничего менять. А горечь оттого, что не получается так, как ему было бы удобнее всего.
В секретарскую вернулись отобедавшие сотрудники, и Женя попрощалась.
27. ТЫ ОДНА?
— Ты одна? А Корсаков где?
— Я его отправила — хочется вдвоем поболтать. Ну, что дома, папа как? — Алина взяла сумки из Жениных рук и понесла на кухню, по дороге зацепилась рукавом за дверную ручку и выронила авоську. — Черт! Там ничего бьющегося нет? А то мы у тебя уже одну чашку кокнули.
— Какую? Не зеленую, бабушкину, нет? — почти что заклинала Женя — так хотелось услышать, что не ее, но Алина беспечно удивилась:
— Как ты догадалась? Точно, ее.
— А склеить нельзя? — На одной ноге Женя прискакала в кухню, держа в руке только что снятый сапог.
— Да нет, вдребезги! — как о своем достижении объявила Алина. — Ты расстроилась, что ли? Успокойся, куплю я тебе чашку!
Купеческое «куплю» покоробило Женю, но она промолчала. Объясняться бесполезно. Алина хмыкнет и пройдется насчет мещанского «вещизма». Надо было спрятать эту чашку перед тем, как пускать к себе Алину с Корсаковым. Но я же не знала…
— Чего ты не знала?
Женя и не заметила, что последние слова сказались вслух.
— Ничего про мамину семью мы с тобой не знали.
И Женя стала пересказывать сестре то, что услышала только вчера, когда мама собирала ее в дорогу.
Что им было известно про деда? Строгий, блюл дисциплину и порядок. На обеденном столе, за которым всегда в одно и то же время собирались чада и домочадцы, рядом с его тарелкой кроме обычной, алюминиевой ложки всегда лежала деревянная. Он брал ее в руки, когда кто-нибудь из тринадцати детей начинал баловаться. Обычно этого жеста хватало — все замолкали, но если шалун не унимался, то получал ложкой по лбу и должен был выйти из-за стола. В семье все работали с малых лет — держали производство по выделке кож. Больше всех трудился сам дед. Его все любили, он был верующим, соблюдал посты, бедным помогал. Посторонних никогда не нанимали, справлялись своими силами.
Но все равно, однажды на телегах приехали чекисты — бывшие никчемные лентяи, неумехи и пьяницы, презрения к которым дед никогда и не скрывал, — погрузили одежду, мебель, посуду, деда и увезли. Навсегда. Оставшимся велели в двадцать четыре часа убираться из дома. Мама с бабушкой потом ходили на сватку — сердобольные соседки шепнули, что там очутилось почти все конфискованное добро, — и среди осколков (по дороге очень многое побилось) нашли вот эту зеленую чашку. Теперь и ее нет.
— Сколько же она молчала! Даже нам боялась сказать, что дед был репрессирован. Теперь понятно, мы с тобой страх с молоком матери впитали. До сих пор всего боимся, — критически резюмировала Алина, как будто речь шла о посторонних людях.
— Было чего бояться. Она же нас берегла. А мне родителей жалко.
Женя уже переоделась в джинсы и фланелевую рубашку, поставила чайник и принялась делить на двоих привезенное яблочное варенье, протертую смородину, соленые грибы.
— С пирогами сейчас чаю попьем, а что останется, Корсакову отвезешь. Тебе бы тоже надо в Туров съездить — папу из больницы скоро выпишут. Он так сдал… Мне сказал — сам решил уйти, а мама по секрету шепнула, что это директор завода велел оформлять пенсию — папа уже полгода на больничном. Дело-то, конечно, не в болезни. У них главный энергетик работает не больше трех месяцев в году, но он связан с директором какими-то махинациями, и на охоту вместе ездят. А папа в больницу попал как раз после разговора с этим моральным киллером. О чем они говорили — неизвестно, даже мама не знает.
— Бедный папка! Но что делать, надо молодым дорогу уступать…
— Удивительно, как ты можешь объективность сохранять… — Женя уже управилась с пакетами и банками, взяла вязание и перешла в комнату. — Неужели тебе за него не больно?
Алина забралась ногами в кресло, зябко передернула плечами, накинула шаль:
— Господи, за меня-то кому больно? За эту неделю, пока мы у тебя обитали, я совсем отвыкла от своего сарая, от соседок-мерзавок. Старуха-то ненормальная, но если это признают официально — ей обязаны дать отдельную квартиру, а кто же на это пойдет! У врачей есть указание. Вот она нас и доводит. Ты бы слышала, как она ругается, что про нас во дворе плетет… Мы уже и плитку купили, чтоб на кухне не готовить — она нас чуть не отравила.
Женя знала все о мучениях сестры, но впервые слышала в ее голосе такую покорность.
— Картины мои не дают ей покоя, а я без них ничто и никто. День не пишу — сама не своя. Искусство — это состояние. Писать могу в любое время — и днем, и ночью. Я же так далеко шагнула, что даже Корсаков меня не понимает. Раньше, когда я только начинала, он был мне необходим, а сейчас, мне так кажется, он мою свободу сковывает. Что делать? У художника моего уровня два выхода — уехать за границу, но там только со здешней славой есть шанс пробиться; или, как Сидорова, до сорока лет дожила и ни одной выставки, а сейчас, за полтора года — успех, о котором можно только мечтать.
— Я не поняла, как она этого добилась?
— Очень просто — умерла.
— Не кощунствуй! Ты что же, мертвым завидуешь?!
— И так, как ты, я жить не хочу… — Алина как будто не слышала Жениного возгласа, как будто не замечала присутствия сестры, на которую она вдруг перестала быть похожей.
Женя не обиделась — она сама чувствовала, что живет неправильно. Для себя придумала утешение: настоящая жизнь еще не началась, все еще впереди… Сейчас же стало жутко от безысходности, от невозможности помочь сестре. Как сделать, чтобы у Алины все наладилось, чтобы она добилась успеха? Картины сестры Жене очень нравились, но какова их объективная ценность?
С тех пор как сестра сделалась художницей, Женя стала чаще ходить на выставки в Пушкинский музей, в новую Третьяковку, несколько раз была на Малой Грузинской. Обычно она медленно шла вдоль стен, внимательно рассматривая картины: так миноискателем ощупывают землю, и там, где есть мина, он начинает звенеть. Вот и у Жени внутри начинало радостно звенеть возле некоторых картин, и она возвращалась к ним еще раз после обхода всей экспозиции. Она не раз порывалась объяснить сестре, почему так происходит, но выходил беспомощный лепет — вот в этой картине щемит сердце от крошечной фигурки рыболова в красной кепке, тут притягивает безмятежный, спокойный взгляд женщины, лежащей голышом на причудливо выгнутой кушетке, а здесь — она летела вместе с невестой и женихом над своим родным городом и вместе с ними печалилась, что парение не может продолжаться вечно.
Но про свою сестру? То, что картины Алины очень смелые, она видела, но, чтобы прозвучать, у искусства должно быть обоснование. Алина же не признавала никакой тематики. Она считала, что цель живописи — передать с помощью красок уникальный внутренний мир автора. А нужно ли совершенно отказываться от темы, от сюжета? Вот у молодых поэтов-авангардистов тема неощутима, в отличие от Пастернака и Мандельштама, но лучше ли это? Отказ от понятности — не бывает ли он слабостью?
— Как я хочу, чтобы тебе все удалось… — Женя подошла к сестре, поправила съехавшую шаль.
Ласковый жест как будто разбудил Атину, оторвал ее мысли от собственной персоны.
— У тебя-то как?
— По-прежнему.
— Ты должна бороться с его женой. — Подобно многим, не умеющим навести порядок в собственной жизни, Алина твердо знала, как следует поступать другим.
— Нет, бороться я никогда не буду…
— Значит, ты просто курица.