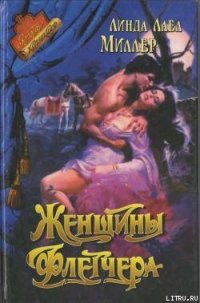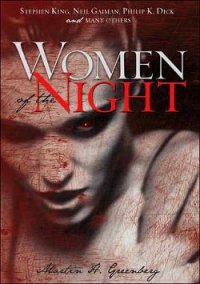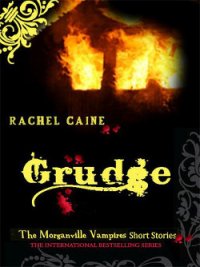Заметки с выставки (ЛП) - Гейл Патрик (читаем книги онлайн бесплатно полностью без сокращений txt) 📗
— Она говорила кому-нибудь, о чем они? — робко спросила она, опасаясь показать свое невежество. — Я хочу сказать, они на самом деле красивые, но что она все-таки пыталась здесь сделать?
— Полагаю, все, что вы сами захотите в них увидеть, — ответил Хедли, и она, все еще рассматривая картины, заметила, как рука Оливера вновь обвила его талию.
Она услышала, как открылась другая дверь, и женщина, нет — девушка, ради всего святого — Морвенна появилась у подножия лестницы.
Винни улыбнулась наименее угрожающей, как она надеялась, улыбкой. Морвенна смотрела на нее снизу вверх. На ее месте, там, внизу, так легко могла оказаться Джоэни, только Джоэни постарше и побитая жизнью, что Винни пришлось сглотнуть, прежде чем она осмелилась заговорить.
— Привет, — сказала она, все еще слегка надтреснутым голосом. — Ты их уже видела? Давай сюда, посмотри. Поднимайся.
И она протянула руку.
НОЧНАЯ РУБАШКА
(около 2001 года)
Хлопок с начесом. Кружево
Это повседневный, но уютный предмет одежды выполнен в стиле, обычном для детства Келли в 1940-х годах. Полная длина, хлопок с начесом кремового цвета, единственным непрактичным штрихом является узенькая кружевная окантовка на манжетах и по подолу, а также цветочки, нанесенные китайским синим (красителем для хлопка и натурального шелка) по кокетке. Следы масляной краски цвета умбра жженая (возможно, из Экспонатов 60–69) можно увидеть на обеих манжетах и, с четкими отпечатками пальцев Келли, спереди у подола. Она хранила верность этому стилю всю свою жизнь, утверждая, что такая рубаха достаточно теплая, чтобы послужить еще и как платье, если она проснется ночью и начнет рисовать. Более поздние экземпляры, такие как этот, приобретались у специализированной компании торговли с почтовой пересылкой.
В течение первых нескольких дней… Или недель? Она полностью утратила ощущение календарного времени. В течение первых нескольких дней или недель ей разрешалось вылезать из ночной рубашки только, чтобы принять ванну, и то лишь в присутствии медсестры на случай, если ей вздумается утопиться или помчаться голой на какой-нибудь мужской этаж.
Вещи для нее паковала мать, поэтому, конечно же, она выбрала ночнушки длинные, теплые и практичные, которые она никогда уже не надевала вместо комбинаций, купленных ею самой. Во время одного из посещений она попыталась попросить принести ей другие, но ее связали какой-то химической смирительной рубашкой, язык от этого казался таким толстым и тяжелым, что слова выходили исковерканными, точно у пьяной женщины.
— Ненавижу это дерьмо, как из «Маленького дома в прериях»[49] — думала она, что сказала, но мать только посмотрела огорченно и ответила:
— Не надо, дорогая. Не пытайся говорить. Мы можем просто посидеть здесь немного, чтобы нам было хорошо и спокойно вместе.
И она-таки была спокойной, пожалуй, впервые за долгие месяцы. За это она была благодарна наркотикам. Или шокам. Неважно. Страхи исчезли. И ребенок. Конечно, они дали ей наркотики и сделали аборт. Все знали, что так всегда делают. И с порочными дочерями, и с беспутными незамужними сестрами. Так гораздо проще, чем отсылать их к тетке в Уолтаун, Британская Колумбия, или куда угодно. Так что, если им нужно было что-то сказать, то они могут сказать, что она отдыхает в Кларке, у нее нервы.
«Такая умная девочка, но нервы иногда сдают».
Попасть в Кларк было уже не так позорно как раньше. Там бывали очень даже толковые люди. Мальчик Баттервортов, старший из Клейторнов. Даже Анжела О'Хара, эта светская звезда.
Она с облегчением избавилась от него, от этой чудовищной штуки. Когда он перешел от разговоров с ней во сне к шипению своих отвратительных предложений через материал платья и любое количество слоев в часы бодрствования, она впала в отчаяние. Травка не помогала, она попыталась смешать ее с выпивкой. И посмотрите, куда это завело. Но ей нужно было, чтобы они были с ней честными.
Как только они ее зашили и связали, и сделали переливание, чтобы заменить то, что она потеряла, прежде чем посадить ее в химическую смирительную рубашку, они позволили ей поговорить с психоаналитиком, с настоящим доктором. Он был хорош собой и у него были такая фантастическая героическая челюсть с легкой дневной щетиной, отливавшей синевой, и подбородок, который хотелось погладить кончиками пальцев. Женат, конечно же, и слишком старый для нее, но она могла себе представить, как ее мать, с этой ее демонстративной невинностью, называет его прекрасным, честным человеком.
Он был добр, но тверд. Он прогнал ее через батарею тестов. Она должна была назвать премьер-министра, и сказать дату — тут она ошиблась, и вспомнить девичью фамилию матери — и тут она, ура, все сделала правильно. Он заставил ее взглянуть на чернильные кляксы с цветными пятнами и сказать, что она видит. Он заставил ее отвечать на многовариантные вопросы типа: «Вы видите, как мальчик раздавил ногой червяка. Вы а) чувствуете тошноту б) смеетесь или в) ничего не чувствуете» или «В доме пожар и вы может вынести только одну вещь. Что вы будете спасать а) свою любимую книгу, б) любимое платье или в) свою швейную машинку».
К нему присоединилась социальный работник. Девушка. Практичная обувь. Не привлекательная. Она задавала ей самые разные вопросы о Хейвергале и ее семье, о ее родителях, о планах на университет, и есть ли у нее парень, и, ах да, есть ли лучшая подруга, ну да, а как отношения с сестрой. Ну и так далее.
Наконец она сама получила возможность задать несколько вопросов, и она спросила.
— Ты не беременна, — сказал ей психоаналитик. — Ребенка не было.
Тут-то она сразу поняла, что они сделали. Она попыталась припомнить как это все было, трепет пульса в запястьях, память о боли и крови, чтобы сообразить, когда они сделали это. Возможно, они незаметно вкололи инъекцию? Возможно, она несколько часов валялась в отключке и не знала, что происходит?
Наконец, ей позволили выбираться из постели дальше ванной. Химическую смирительную рубашку ей ослабили, так что она могла ходить самостоятельно. Ну, не ходить, а шаркать. Походка, как и язык, по-прежнему оставались заплетающимися и неуклюжими. Ей разрешили напялить халат и тапочки, чтобы присоединиться к компании травмированных девиц и сумасшедших дам с тетками, слоняющихся повсюду. Вы бы пересели на другой автобус, чтобы избежать встречи с ними. Ей пока не разрешали выходить из отделения. Ее держали в ночной рубашке и таким способом добивались своего. Другие пациенты, одетые должным образом, могли беспрепятственно разгуливать по всему зданию, даже садиться в лифт и ехать вниз на цокольный этаж посидеть в кафетерии самообслуживания с видом на Колледж-стрит или, если иметь в виду пациентов, почти готовых к выписке, фактически выйти из здания и гулять по соседним улицам.
Она была на высоком этаже, десятом или одиннадцатом — как ей казалось, хотя сосчитать этажи близлежащих зданий университета для сравнения было трудно без лекарств, от которых у нее кружилась голова. Этаж вовсе не был похож на отделение, как, к примеру, там, где ей удаляли миндалины, потому что у них у всех были свои собственные комнаты, выходившие в коридор. После того, как ей разрешили вставать, медсестра показала ей, как складывать кровать, чтобы получился диван, на котором можно было сидеть днем.
— Аккуратненько, ага, — высказалась она. Так оно и было.
Там был маленький шкаф со встроенными вешалками, так что ими невозможно было порезаться, маленький туалетный столик и окно, которое не открывалось ни на чуть-чуть. (Окна даже не бились. Она знала, потому что была одна женщина, которая при случае постоянно на них бросалась. Не огнетушитель швыряла и не стул, и не что-то практически твердое. Просто билась головой.) Казалось, что ароматы школьной столовой никогда не выветривались, так и гуляли по коридорам и вестибюлям, смешиваясь с более острыми запахами дезинфицирующих средств, мочи и мерзкого розового мыла.