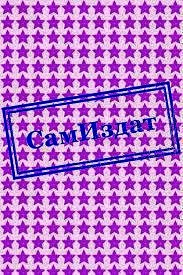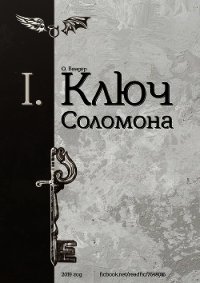Человек без свойств (Книга 1) - Музиль Роберт (читать книги онлайн полностью TXT) 📗
— Этого больше нет, — ответил Ульрих. — Достаточно тебе заглянуть в газету. Она полна абсолютной непроницаемости. Там речь идет о стольких вещах, что это выше умственных способностей какого-нибудь Лейбница. Но этого даже не замечают; все стали другими. Нет больше противостояния целостного человека целостному миру есть движение чего-то человеческого в общей питательной жидкости.
— Совершенно верно, — тотчас сказал Вальтер. — Нет больше универсального образования в гетевском смысле. Но поэтому на каждую мысль найдется сегодня противоположная мысль и на каждую тенденцию сразу же и обратная. Любое действие и противодействие находят сегодня в интеллекте хитроумнейшие причины, которыми можно и оправдать и осудить. Не понимаю, как ты можешь брать это под защиту!
Ульрих пожал плечами.
— Надо совсем устраниться, — тихо сказал Вальтер.
— Сойдет и так, — отвечал его друг. — Может быть, на пути к государству-муравейнику или к какому-нибудь другому нехристианскому разделению труда.
Про себя Ульрих отметил, что соглашаться и спорить одинаково легко. Презрение проглядывало в вежливости так же ясно, как лакомый кусок в желе. Он знал, что последние его слова рассердят Вальтера, но ему, Ульриху, отчаянно захотелось поговорить с человеком, с которым он мог бы целиком согласиться. Такие разговоры у него с Вальтером когда-то бывали. Тут слова из груди вырывает какая-то тайная сила, и каждое попадает в самую точку. А когда говоришь неприязненно, они поднимаются как туман над плоскостью льда. Он поглядел на Вальтера без злобы. Ульрих был уверен, что и у того было чувство, что этот разговор, чем дальше он заходит, тем больше расшатывает его, Вальтера, внутреннюю убежденность, но что тот винит в этом его, Ульриха. «Все, что ни думаешь, есть либо симпатия, либо антипатия!» — подумал Ульрих. И мысль эта так живо представилась ему в тот миг верной, что он ощутил ее как физический толчок, подобный импульсу, шатающему сразу целую толпу тесно прижатых друг к другу людей. Он оглянулся на Клариссу.
Но Кларисса, по всей видимости, уже давно перестала слушать; в какой-то момент она взяла лежавшую перед ней на столе газету, потом стала копаться в себе, доискиваться, почему это доставляет ей такое глубокое удовольствие. Она чувствовала абсолютную непроницаемость, о которой говорил Ульрих, перед глазами и газету между кистями рук. Руки расправляли темноту и раскрывались сами. Руки составляли со стволом тела две поперечины, и между ними висела газета. В этом состояло удовольствие, но слов, чтобы описать это, в Клариссе не оказалось. Она знала только, что смотрит на газету, не читая, и что ей кажется, будто в Ульрихе скрыто что-то варварски таинственное, какая-то родственная ей самой сила, но ничего более точного насчет этого ей не приходило на ум. Губы ее, правда, открылись, словно бы для улыбки, но это произошло безотчетно, в каком-то напряженно-вольном оцепенении.
Вальтер тихо продолжал:
— Ты прав, когда говоришь, что сегодня нет уже ничего серьезного, разумного или хотя бы прозрачного; но почему ты не хочешь понять, что виновата в этом как раз возрастающая разумность, которой заражено все на свете? Все мозги заражены желанием делаться все разумнее, более, чем когда-либо, рационализировать и специализировать жизнь, но одновременно и неспособностью вообразить, что из нас станет, когда мы все познаем, разложим, типизируем, превратим в машины и нормируем. Так продолжаться не может.
— Господи, — равнодушно отвечал Ульрих, — христианину монашеских времен приходилось верить, хотя он мог вообразить только небо, которое со своими облаками и арфами было довольно скучным; а мы боимся неба разума, которое напоминает нам линейки, прямые скамьи и ужасные, сделанные мелом чертежи школьных времен.
— У меня такое чувство, что следствием будет безудержный разгул фантазии, — прибавил Вальтер задумчиво. В этих словах была маленькая трусость и хитрость. Он думал о таинственной враждебности разуму в Клариссе, а говоря о разуме, доводящем эту враждебность до крайности, думал об Ульрихе. Те этого не ощущали, и это награждало его болью и торжеством человека недопитого. Охотней всего он попросил бы Ульриха не появляться больше до конца его .пребывания в городе у них в доме, если бы только такая просьба не вызвала у Клариссы бунта.
Так оба молча наблюдали за Клариссой.
Кларисса заметила вдруг, что они уже не спорят, потерла глаза и приветливо подмигнула Ульриху и Вальтеру, которые под лучами желтого света сидели перед синими вечерними окнами как в стеклянном шкафу.
55
Солиман и Арнгейм
У убийцы Кристиана Моосбругера была, однако, и вторая доброжелательница. Вопрос о его виновности или о его недуге взволновал несколько недель назад ее сердце столь асе живо, как многие другие сердца, и у нее имелась своя концепция этого дела, несколько отличавшаяся от концепции суда. Ей нравилось имя Кристиан Моосбругер, оно вызывало у нее представление об одиноком мужчине высокого роста, который сидит у заросшей мхом мельницы и прислушивается к грохоту воды. Она была твердо убеждена, что выдвинутые против него обвинения объяснятся каким-то совершенно неожиданным образом. Когда она сидела в кухне или в столовой со своим рукодельем, случалось, что Моосбругер, сбросив с себя цепи, подходил к ней, и тогда начинались совсем уже безумные фантазии. В них отнюдь не исключалось, что если бы Кристиан познакомился с нею, Рахилью, вовремя, то он отказался бы от своей карьеры убийцы девушек и оказался разбойничьим атаманом с невероятным будущим.
Этот бедняга в своей тюрьме и не подозревал о сердце, которое билось для него, склонившись над нуждавшимся в починке бельем Диотимы. От квартиры начальника отдела Туцци до окружного суда било совсем недалеко. Чтобы перелететь с одной крыши на другую, орлу понадобилось бы лишь раз-другой взмахнуть крыльями; но для современной души, играючи наводящей мосты через океаны и континенты, нет ничего столь невозможного, как найти связь с душами, живущими за ближайшим углом.
Поэтому магнетические токи сошли на нет, и с некоторых пор Рахиль любила вместо Моосбругера параллельную акцию. Даже сели во внутренних покоях дела налаживались не совсем так, как им следовало бы, в передних события обгоняли друг друга. Рахиль, прежде всегда находившая время читать газеты, попадавшие от хозяев я кухню, уже не успевала делать это с тех пор, как с утра до вечера стояла на страже параллельной акции маленьким часовым. Она любила Диотиму, начальника отдела Туцци, его сиятельство графа Лейнсдорфа, набоба, а с тех пор, как заметила, что Ульрих начинает играть какую-то роль в этом доме, и Ульриха тоже; так собака любит друзей своего дома: это одно чувство, а все-таки разные запахи, создающие волнующее разнообразие. Но Рахиль была умна. Что касается Ульриха, например то она прекрасно заметила, что он всегда немного противостоит другим, и ее фантазия начала приписывать ему особую, еще не выясненную роль в параллельной акции. Он всегда приветливо смотрел на нее, и маленькая Рахиль замечала, что особенно долго он разглядывает ее тогда, когда думает, что она этого не видит. Она не сомневалась, что он чего-то от нее хочет; вот и пускай бы; ее белая кожа съеживалась от ожидания, и из ее красивых черных глаз вылетала к нему время от времени крошечная золотая стрелка. Ульрих чувствовал искры этой малютки, когда она сновала вокруг монументальной мебели и посетителей, и это немного развлекало его.
Своей долей внимания со стороны Рахили он был в немалой мере обязан таинственным разговорам в передней, пошатнувшим господствующее положение Арнгейма; ибо этот блистательный человек имел, не зная того, кроме него и Туцци, еще и третьего врага в лице своего маленького слуги Солимана. Этот арапчонок был сверкающей пряжкой в том волшебном кушаке, которым опоясала Рахиль параллельная акция. Смешной малыш, пришедший вслед за своим господином из сказочной страны на улицу, где служила Рахиль, он был просто принят ею во владение как часть сказки, предназначенная непосредственно ей; так было создано специально; набоб был солнцем и принадлежал Диотиме, Солиман принадлежал Рахили и был светящимся на солнце, восхитительно пестрым осколком, который она прибрала к рукам. Но мальчик был не совсем такого мнения. Несмотря на свою миниатюрность, он уже вступил в семнадцатый год жизни я был существом, поеным романтики, злости и личных претензий. Арнгейм вытащил его когда-то на юге Италии из труппы плясунов и взял к себе; этот на редкость вертлявый малый с грустным обезьяньим взглядом тронул его сердце, и богач решал открыть ему более высокую жизнь. То была тоска но искренней, верной дружбе, нередко нападавшая на одинокого Арнгейма как приступ какой-то слабости, хотя он обычной прятал это чувство за усиленной деятельностью, и до того, как Солиман достиг четырнадцати лет, он обращался с ним как с равным с такой же примерно неосмотрительностью, с какой прежде в богатых домах воспитывали молочных братьев и сестер собственных детей, позволяя им участвовать во всех играх и увеселениях до того момента, когда нужно было показать, что материнская грудь вспаивает худшим молоком, чем грудь кормилицы. Днем и ночью, у письменного ли стола или во время многочасовых бесед со знаменитыми посетителями, Солиман торчал у ног, за спиной или на коленях своего господина. Он читал Скотта, Шекспира и Дюма, если именно Скотт, Шекспир и Дюма валялись на столах, и научился разбирать буквы по настольному словарю гуманитарных наук. Он ел конфеты своего господина и рано начал тайком курить его папиросы. Приходил частный учитель и давал ему — несколько нерегулярно из-за множества поездок — уроки по курсу начального обучения. При всем при том Солиман ужасно скучал и ничего не любил так горячо, как труды камердинера, в которых ему тоже разрешалось участвовать, ибо это была настоящая и взрослая деятельность, льстившая его рабочему рвению. Но однажды, и было это не так давно, его господин вызвал его к себе и дружески объяснил ему, что он, Солиман, не совсем оправдал его, господина, надежды, что он, Солиман, уже не ребенок и что он, Арнгейм, как его хозяин, отвечает за то, чтобы из Солимана, маленького слуги, вышел порядочный человек; отчего он решил обращаться с ним отныне только как с тем, кем он некогда станет, чтобы он, Солиман, привык к этому вовремя. Многие из преуспевших в жизни людей, прибавил Арнгейм, начинали чистильщиками сапог и мойщиками посуды, в чем как раз и заключалась их сила, ибо нет ничего важнее, как с самого начала целиком отдаться делу.