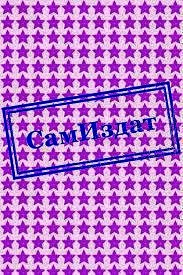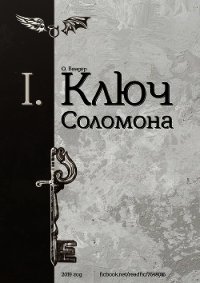Человек без свойств (Книга 1) - Музиль Роберт (читать книги онлайн полностью TXT) 📗
— Многие утверждают сегодня нечто подобное, — пояснил Ульрих, — но Арнгейму верят, потому что его можно представить себе большим, богатым человеком, который наверняка точно знает все, о чем говорит, сам был на Гималаях, владеет автомобилями и носит столько бензоловых колец, сколько захочет.
Кларисса пожелала узнать, как выглядят бензоловые кольца; ею руководило неясное воспоминание о кольцах с карнеолами.
— Все равно ты очаровательна, Кларисса! — сказал Ульрих.
— Слава богу, ей незачем понимать всякий химический вздор! — защитил ее Вальтер; затем, однако, он стал защищать сочинения Арнгейма, которые он читал. Он не хочет сказать, что Арнгейм — это лучшее, что можно себе представить, но все-таки это лучшее из того, что создано современностью; это новый дух! Хоть и чистейшая наука, но в то же время и выходит за пределы знания! Так прошла прогулка. Результатом для всех были мокрые ноги, раздраженный мозг, словно тонкие, блестевшие на зимнем солнце голые ветки занозами застряли в сетчатке, общее желание горячего кофе и чувство человеческой потерянности.
От таявшего на башмаках снега шел пар, Кларисса была рада, что в комнате наследили, а Вальтер все время надувал свои по-женски пухлые губы, потому что искал спора. Ульрих рассказывал о параллельной акции. Когда дело дошло до Арнгейма, они снова заспорили.
— Я скажу тебе, в чем я против него, — повторил Ульрих. — Научный человек — это сегодня совершенно неизбежное дело; нельзя не хотеть знать! И никогда разница между опытом специалиста и опытом профана не была так велика, как теперь. По мастерству массажиста или пианиста это видит любой; сегодня и лошадь уже не выпускают на беговую дорожку без специальной подготовки. Только насчет того, как быть человеком, каждый еще считает себя вправе судить, и старый предрассудок утверждает, что человеком родишься и умираешь! Но хоть я и знаю, что пять тысяч лет назад женщины писали своим любовникам дословно такие же письма, как сегодня, я уже не могу читать такое письмо, не спрашивая себя, не должно ли и тут что-то измениться!
Кларисса показала, что склонна согласиться с ним. Зато Вальтер улыбался как факир, который старается и глазом не моргнуть, когда ему прокалывают щеки шляпной булавкой.
— Это означает не что иное, как то, что ты пока отказываешься быть человеком! — возразил он.
— Примерно. Это неотделимо от какого-то неприятного чувства дилетантства!
— Но я готов признать и нечто совсем другое, — продолжил Ульрих после некоторого размышления. — Специалисты никогда не доводят дело до конца. Не только сегодня; они вообще не в силах представить себе завершение своей деятельности. Не в силах, может быть, даже желать его. Можно ли, например, представить себе, что у человека останется еще душа, когда он научится полностью понимать ее биологически и психологически и с ней обращаться? Тем не менее мы стремимся к этому состоянию! Вот в чем вся штука. Знание — это поведение, это страсть. Поведение по сути непозволительное; ведь так же, как алкоголизм, как сексуальная мания и садизм, неодолимая тяга к знанию создает неуравновешенный характер. Совершенно неверно, что исследователь гонится за истиной, она гонится за ним. Он ее претерпевает. Истинное истинно, а факт реален, и до исследователя им нет никакого дела; он одержим лишь страстью к ним, алкоголизмом в отношении фактов, накладывающим печать на его характер, и ему наплевать, получится ли из его определений нечто цельное, человечное, совершенное и вообще что-либо. Это противоречивое, страдающее и притом невероятно активное существо!
— Ну, и?.. — спросил Вальтер.
— Что: «ну, и»?
— Ты же не хочешь сказать, что на этом можно поставить точку?
— Я поставил бы на этом точку, — сказал Ульрих спокойно. — Наш взгляд на наше окружение, да и на самих, себя меняется с каждым днем. Мы живем в переходное, время. Если мы не будем решать наши глубочайшие проблемы лучше, чем до сих пор, оно продлится, может быть до конца света. И все равно, очутившись в темноте, и надо, как ребенок, начинать петь от страха. А это и есть петь от страха, когда делают вид, что знают, как нужно вести себя здесь, на земле; можешь рыча ниспровергая что угодно — все равно это только страх! Впрочем, убежден: мы мчимся галопом! Мы еще далеки от своих целей, они не приближаются, мы их вообще не видим, и еще часто будем заезжать не туда и менять лошадей; но однажды — послезавтра или через две тысячи лет — горизонт потечет и с шумом ринется нам навстречу!
Стемнело. «Никто не может заглянуть мне в лицо, — додумал Ульрих. — Я и сам не знаю, лгу ли я». Он говорил так, как говорят, когда в какую-то минуту, которая не уверена в себе самой, подводят итог многолетней уверенности. Он вспомнил, что ведь эта юношеская мечта, которой он сейчас побивал Вальтера, давно стала пустой. Ему не хотелось больше говорить.
— И мы должны, — едко ответил Вальтер, — отказаться от всякого смысла жизни?!
Ульрих спросил его, зачем ему, собственно, нужен смысл. Ведь можно и так обойтись, заметил он.
Кларисса хихикнула. Без ехидства, просто вопрос Ульриха представился ей забавным.
Вальтер зажег свет, ибо счел ненужным, чтобы Ульрих пользовался при Клариссе преимуществом скрытого темнотой человека. Всех троих неприятно ослепило.
Ульрих, упорствуя, продолжал объяснять: — Единственное, что нужно в жизни, — это убежденность, что дело идет лучше, чем у соседа. То есть твои картины, моя математика, чьи-то дети и жена; все заверяющее человека, что хоть он отнюдь не есть нечто необыкновенное, но что, при его манере не быть необыкновенным, сравняться с ним не так-то легко!
Вальтер еще не успел сесть снова. В нем было беспокойство. Торжество. Он воскликнул:
— Знаешь, что ты говоришь? Тянуть тут же волынку! Ты просто австриец. Ты учишь австрийской государственной философии — тянуть волынку!
— Это, может быть, не так скверно, как ты думаешь, — сказал Ульрих в ответ. — Из страстной потребности в четкости, точности или красоте можно дойти до того, что тянуть волынку тебе станет милее, чем предпринимать какие бы то ни было усилия в новом духе. Поздравляю тебя с тем, что ты открыл всемирно-историческую миссию Австрии.
Вальтер хотел возразить. Но оказалось, что чувство, поднявшее его на ноги, было не только торжеством, но и — как бы сказать? — желанием на минутку выйти. Он колебался между двумя желаниями. Но совместить одно с другим нельзя было, и его взгляд соскользнул с лица Ульриха на путь к двери.
Когда они остались вдвоем, Кларисса сказала:
— Этот убийца музыкален. То есть. — Она запнулась, потом таинственно продолжила: — Сказать ничего нельзя, но ты должен что-то для него сделать.
— Что же я должен сделать?
— Освободить его.
— Ты с ума сошла!
— Ты ведь совсем не так обо всем думаешь, как говоришь Вальтеру?! — спросила Кларисса, и глаза ее, казалось, добивались от него ответа, смысла которого он не мог угадать.
— Не знаю, чего ты хочешь, — сказал он.
Кларисса упрямо посмотрела на его губы; потом повторила:
— Все равно тебе следовало бы сделать то, что я сказала; ты бы преобразился.
Ульрих глядел на нее. Он не понимал толком. Наверно, он что-то пропустил мимо ушей; какое-нибудь сравнение или какое-нибудь «словно бы», придававшее смысл ее вдовам. Странно было слышать, что без этого смысла она говорила так естественно, как будто речь шла о чем-то обыкновенном и ею испытанном.
Но тут вернулся Вальтер.
— Могу согласиться с тобой…— начал он. Перерыв лишил этот разговор остроты.
Он снова сидел на своей табуретке у рояля и удовлетворением глядел на свои башмаки, к которым пристала земля. Он подумал: «Почему земля не пристает к башмакам Ульриха? Она — последнее спасение европейского человека».
А Ульрих глядел на ноги над башмаками Вальтера они были в черных хлопчатобумажных носках и имели некрасивую форму мягких девичьих ног.
— Надо ценить, если у человека сегодня есть еще стремление быть чем-то цельным, — сказал Вальтер.